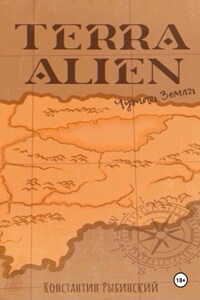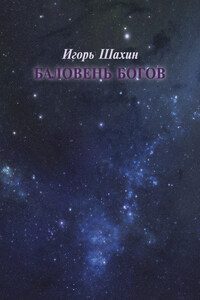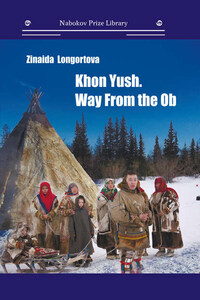На холсте появился Город: белый, в окружении высоких гор цвета синего пепла, чуть подёрнутых голубиной дымкой. Солнце слепило бликами с почти неразличимых сусальных шпилей, отражаясь в оконном стекле домов, пронизывая воздух и там, и здесь. Тесные, на два ходока, извилистые улочки, мощенные лиловым камнем, резали полотно на прихотливые куски. Нежданные проулки вели в затопленные светом колодцы дворов, заросших цепким, блестящим после ночного дождя плющом и розовыми кустами, что заполняли своим ароматом Город по крохотные резные балкончики верхних этажей, по остроконечные черепичные крыши. Готический шатёр Ратуши, сплошь покрытый мраморными барельефами, что пытались напомнить беспечным горожанам о бесчисленных славных победах далёкого прошлого, стягивал композицию к центру.
Часы на башне с недоверчивыми горгульями гулко пробили десять. Он тяжко вздохнул, мазнул в правом нижнем углу холста дату и подпись. Отвернулся к окну, чиркнул спичкой, закутался в ароматный вишнёвый дым, как в мантию. За мутным стеклом густыми хлопьями валил сквозь вечный Туман снег, оглушая свет фонарей, а перед глазами всё стояли совсем другие улицы.
Туман появился в Городе незаметно. Словно невидимый, жестокий и осторожный паук, он опутывал дома, оплетал деревья, пеленал людей и забирался к ним в души, впрыскивая свой едкий яд, отчего глаза делались бесцветными и пустыми. Никто уже не помнил, когда и откуда он пришёл. Сказать по совести, теперь очень немногие горожане мучили себя этим вопросом. День ото дня, Туман становился осязаемей, гуще, и Город постепенно погрузился в сырые сумерки. Солнечный свет остался в легендах, на выцветших фотографиях счастливых людей. Нынче Солнце едва угадывается в сером небе белёсым размытым пятном, а ночь без луны и звёзд опускается на Город непроглядной тьмой, то тут, то там разгоняемой редкими жёлтыми фонарями.
Сегодня только-только наступил декабрь, заявив о себе восхитительным снегопадом. Огромные только сотворённые лохматые снежинки, словно по волшебству появлялись в тёплом электрическом свете, выстилали улицы белым, уже не таяли, обосновываясь надолго. Сквозь снег шёл человек. Ноги тонули в холодных облаках, взбивали невесомые хлопья прихотливо замёрзшей воды, но ничто не нарушало ватной тишины снегопада.
Дома закончилась последняя бутылка мягкого армянского бренди, сунутая в угол необъятного дедовского платяного шкафа на «чёрный день». Пошарив рукой в пыльной темноте, пахнущей дорогой кожей, он непечатно выругался: магазины уже закрыты, придётся тащиться в бистро, не дай Бог, встретишь там кого. В пути с ним случилось что-то вроде раздвоения личности: лучшая его часть укоряла, что нажираться, как сельский староста после аванса – моветон и совсем не комильфо, другая слала первую нахер, затем соглашалась, но добавляла на выдохе: «недостаточно», съедая последние гласные. Видимо, привычка пить в одиночестве приносила грустные плоды. Но чем ещё, чёрт возьми, разгонять эту оскаленную хищную пустоту вокруг?
Проходя мимо чёрной подворотни с подмёрзшим запахом, он получил звенящую строчку. Так случалось, слова просто появлялись в сознании, нужно было только запомнить, записать, зафиксировать. «В начале было Слово, и Слово было Одиночество». Он удивился, покрутил фразу на распухшем языке и так, и этак. Она ощущалась как гладкий камешек точёный морем, не царапала нёбо, не шершавила, звонко отстукивала по зубам. Запомнилась, потянула за собой другие: «И Одиночество было у Бога, и Одиночество было Бог. И всё стало через Него, и ничего, что есть не стало без Него». Он повторил пришедшее несколько раз, убедился, что запомнил, но всё равно бормотал до самого «Домино».