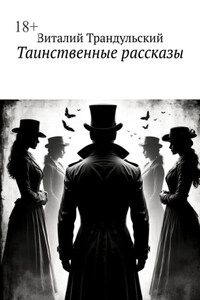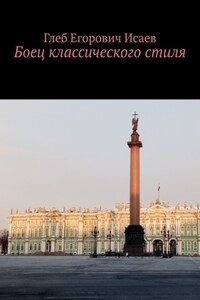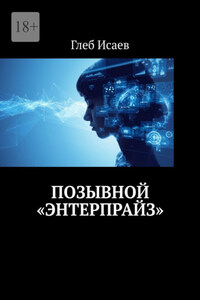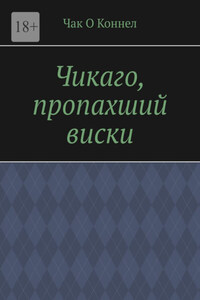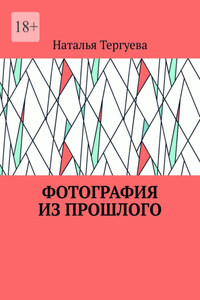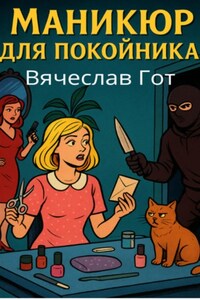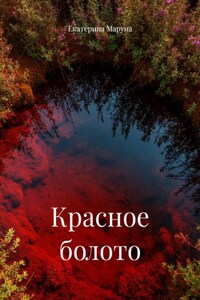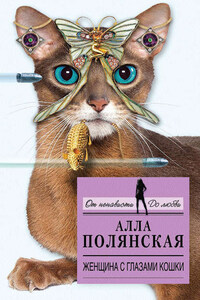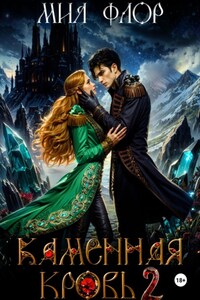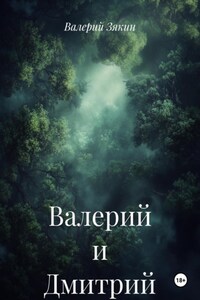2024 год.
В конце XIX – начале XX века Сибирский край, по своему особенному отношению к криминальному миру, весьма и весьма выделялся, если его сравнивать с другими губерниями Российской империи. Мало того, что Сибирь выполняла тюремную повинность за целое государство и количество ссыльных, беглых и просто лихих людей буквально зашкаливало в суровом северном крае, так в добавок ко всему, и правоохранительная стезя колебалась на самом невысоком уровне.
В полицейский надзор не хотели идти не только из-за риска расстаться со здоровьем или даже жизнью, а и по причине, что размер жалования полицейского соответствовал разве заработкам чернорабочего, без квалификации и разряда. Проще говоря, розыскное дело становилось делом призвания, а на одном призвании, да ещё и с дефицитом кадров и непрестижностью профессии, далеко не уедешь.
Мошенники, воры, грабители, конокрады при определённой осторожности, а иногда и при помощи подкупа должностных лиц, свободно действовали, не опасаясь, что их заметут после первого же дела. Попадались обычно зарвавшиеся и не видящие границ своим злодействам, или босота, из новеньких, за которых пока некому было поручиться. Матёрые преступники, как принято было называть марвихеры или просто херва, могли долго оставаться на свободе и даже уйти на покой, сколотив себе приличное состояние.
Сибирь воровала и грабила, резала и стреляла, гуляла и пила. Пила много. Разгульность некоторых городов, по употреблению хлебного вина, то бишь водки, превышала четыре с половиной ведра на человека, в то время как в других губерниях, для сравнения, была чуть более половины ведра. Ну как тут было навести порядок вечно занятому строительством транссибирской железной дороги, генерал-губернатору Горемыкину Александру Дмитриевичу. Нет, нет, ему было решительно не до этих пакостей, как он сам выражался о происходящем в его царстве-государстве. Поджидав назначение, и ни куда-нибудь, а в сам государственный совет департамента промышленности, наук и торговли, Александр Дмитриевич уже порядком охладел к делам нынешним и в упор не желал видеть реальной обстановки на местах.
На фоне всего этого, Сибирь, особенно восточная, стала возводить свою криминальную иерархию, в которой первое место, без всяких сомнений, занял «Зубастый Иркутск», уверенно заткнув на вторые позиции Красноярск, Читу, и другие города сурового края, у которых не хватило пороху для главенствующего трона.
В Иркутске было чем поживиться. Росла и крепла золотопромышленность, открывались частные банки, строились фабрики. Сибирское пароходство осуществляло в «Зубастом» транспортировку угля и леса и обеспечивало приток населения. Для хервы это также открывало новые возможности. Преступники становились хитрее и опытнее, сколачивали шайки и банды, имели своих главарей и даже авторитетов, имеющих влияние сразу над несколькими кодлами. Естественно, для всего этого требовались и места дислокации, злачные места, изобилующие притонами, борделями, малинами, вертепами и кабаками.
Вот в одном таком злачном месте и произошла эта история.
***
Молодой человек, лет двадцати пяти, уже битый час прогуливался по набережной Ушаковки, ковыряя старую мостовую элегантными заграничными сапожками с блестящими металлическими носами, которые звякали о грубые грязные булыжники замощённого тротуара. За одни только такие сапожки можно было получить по голове и быть ограбленным, стоило перейти мост и оказаться на Волчьем острове. Именно так называли один из криминальных районов города, куда простые обыватели почти никогда не ходили и куда ненастным вечером явился молодой парень.