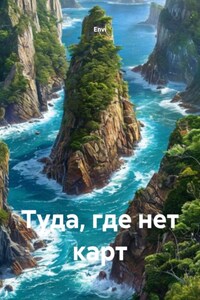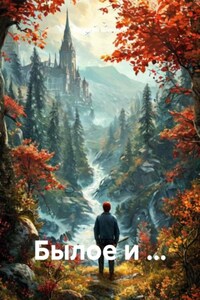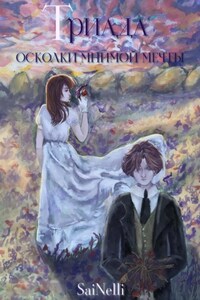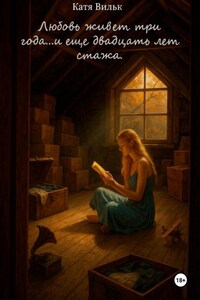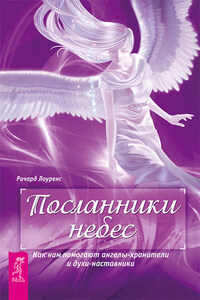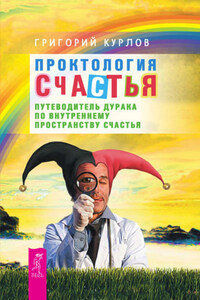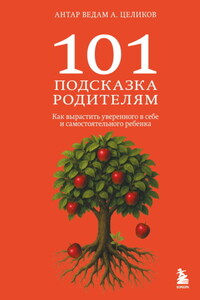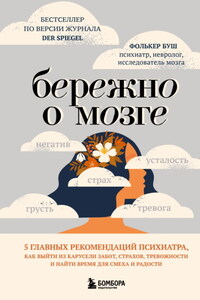Предисловие
Действие романа разворачивается в середине 70-х годов 20-го века. Коллектив расположенного в одном из малых сибирских городов завода ценой неимоверных усилий добивается создания радиоаппаратуры мирового класса. На этом пути героев книги, энтузиастов, постигают не только удовлетворённость от достигнутого результата, но и горести, разочарования, разные житейские неудачи, за взлётами следуют падения. На глазах у многих совершаются преступления, рушатся длительные связи, наступают недуги и семейные катастрофы. Реальная действительность последних советских десятилетий приходит в противоречие с первоначальными пафосными установками, терпят крах утопические попытки создания «нового человека».
Но люди труда и подвига с честью проходят через все испытания.
– Так-то оно так, но что будет с д`етьми? – со своим неподражаемым одесско-варшавским акцентом сказала автору прочитавшая рукопись конструкторесса Клара Кременчугская, друг семьи автора. И продолжала: – Вот видишь, ты не знаешь!.. А я за моих близняшек в ответе… Так что меня исключи, не упоминай обо мне ни под именем собственным, ни под псевдонимом. Я не хочу быть среди последних. И не буду. Понятно? !. А сам думай: с д`етьми что будет, с д`етьми?..
Автор с пониманием отнёсся к просьбе добрейшей конструкторессы Клары. Упоминаний о ней в книге не будет.
Пролог. Цена зарплаты
Город Чеминдинск, Сибирь. 1974 -1976. Итоги «скверных» посиделок
1.
Встречались будто ненароком, хотя и вроде бы не имея определённого, заранее оговорённого времени, у газетного киоска, у магазинов, во дворе ли, на улице, одним словом, где случалось, но всегда не дальше своих кварталов.
Летом в центральном сквере, у клумбы, на неудобной, без спинки, скамейке всегда раньше всех усаживался кто-нибудь из ихних. Выходи, не ошибёшься, своего застанешь.
Зимой скамейки не чистятся от снега. Потому стояли. Ноги у всех стариковские, больные, всё равно разговаривали стоя, сколько могли выдержать.
Из кошёлок торчали толстые, в цветных нашлёпках, горловины молочных бутылок. Птицам выкрашивался купленный только что свежий хлеб. Высокомерные, драчливые голуби, рядом с воробьиной да синичкиной мелочью гиганты, не подпускали этих чужаков, и бабушка Рыжова говорила, что воробьёв и синичек жальчее, голодными остаются. Раньше хоть лошади были, а теперь машины – жрут не овёс, а бензин, вместо навоза дым, а для птиц что толку-то…
Откровенно говоря, Руфина Рыжова едва ли не чаще других здесь бывала – затем, чтобы уменьшить бестолковое хлопотанье голубей, когда они с шумом, давя и отталкивая самых старых и самых слабых собратьев, сбегаются на высыпанные ею из кулька крупяные зёрна. Иногда с налёту, ничего не разбирая вокруг, безоглядно кидаются прямо на Руфину-кормилицу. Она не сердится. Нашептывает:
– Нате вам, нате, дурашки… смотрите, не передавитесь, жалейте себя, и воробьишек тоже жалейте… Нате вот сушечку, она, хотя и жесткая, зато из белой муки, мелко истолченная, да вам не всё же землю долбить.
Ни с кем особенно Руфина не делится насчет голубиных с воробьями распрей. Мужики же всё равно насчет природы – без понятия. Станут они тебе голубей кормить, держи карман шире…
Однако въедливый Сибилёв кормит. И её всё равно раскалывает:
– А вот и Руфина Нифонтова явилась, не запылилась. Красавица наша писаная, в картине не снятая.
– Ты бы пыл свой поумерил, Сибилёв, – одёргивает Руфина. – Рыжова я, а никакая тебе не Нифонтова. В кино не снималась…
– А почему?
– Да не зовут потому что…
– А птички вот зовут. Да. Крошки, поди, насобирала?
– Перловку, верно, принесла.
– А у меня вот хлеб остаётся, я его и крошу, – поддаётся на её незлобивый тон Сибилёв.
– Надо же наш век достойно доживать, Филимон Митрофанович, – с необидной назидательностью сообщает Руфина. – А из хлеба, например, сухарики делаю. В духовке, тогда они вкусные. Куриный бульон сварю, сухариков накрошу. Лапшу или картошку не кладу. Сухарики… Тонкими плитками хлеб нарезаю. Ржаной обязательно. Не белый… Достойно доживать надо, – заканчивает она, и уже даже и совсем без назидательности.