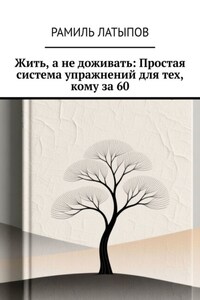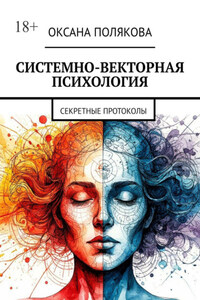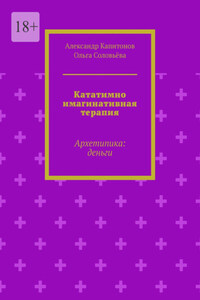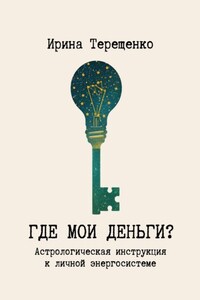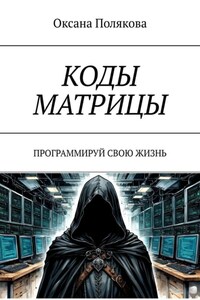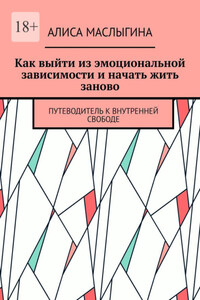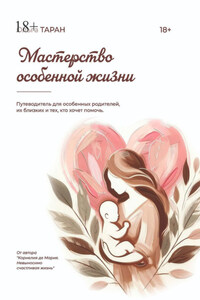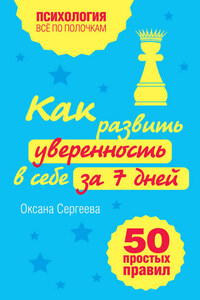С самого начала жизни, находясь в состоянии полной зависимости, младенец оказывается вовлечённым в так называемый драматический треугольник. Процесс сепарации от матери представляет собой путь выхода из этой динамики. Человеку необходимо прожить этот сложный опыт, чтобы в дальнейшем перенести модель отношений с матерью на взаимодействие с другими людьми, завершив таким образом собственную инициацию и выйдя из изначальной системы отношений.
Меня всегда интересовали законы и принципы, лежащие в основе человеческих отношений, а в частности – механизмы, которые определяют, становятся ли они разрушительными или созидательными. Поскольку всё моё детство прошло в окружении людей с зависимым и созависимым поведением, это в итоге привело меня к изучению психологии, особенно её клинического направления. Меня привлекло понимание того, как и при каких условиях нарушается психическое функционирование и как это влияет на восприятие мира и окружающих. Практика в психиатрических клиниках и реабилитационных центрах для людей с зависимостями позволила мне обнаружить схожие паттерны как у лиц с выраженными расстройствами личности, так и у так называемых «невротиков» – людей, условно соответствующих норме и ведущих обычный образ жизни. В течение нескольких лет я изучала обе группы и уже в студенческие годы начала консультировать, что дало возможность чётко идентифицировать поведенческие шаблоны и восприятие мира как проекцию ранних отношений с матерью. Интенсивность психологических проблем – как в группе с серьёзными расстройствами, так и среди условно нормативных людей – напрямую связана с остротой драмы, пережитой в отношениях с матерью, и с тем, насколько успешно человек смог из неё выйти.
Драма – это сценарий с минимум тремя участниками. Интересно, что мать и ребёнок формально являются двумя из них, однако зависимому и уязвимому ребёнку всегда мешает некое третье звено. Именно эта иллюзия и порождает драматизацию. Многие люди живут в рамках этого сценария, не осознавая, что в отношениях участвуют двое и каждый несёт стопроцентную ответственность за их качество. Так формируется созависимость. Драма возможна лишь тогда, когда человек ощущает себя зависимым, уязвимым и контролируемым. Внутреннее желание оставаться в роли ребёнка продолжает влиять на построение незрелых и неудовлетворительных отношений с окружающими.
В данной книге я рассматриваю трансформацию диадных отношений «мать—ребенок» в драматический треугольник, где третьей вершиной становится фактор, препятствующий ощущению слияния. Хотя анализ триадных отношений «мать—отец—ребенок» допускает множество теоретических подходов – например, модель Карпмана с её динамикой Жертвы, Преследователя и Спасителя, или структурно-символический анализ, в котором мать олицетворяет удовольствие, а отец – закон, – я сосредоточусь исключительно на диаде матери и ребёнка. Именно это взаимодействие закладывает основу психического развития человека, определяя его будущее восприятие мира и способы реагирования на него.
Наблюдения, накопленные за годы работы с пациентами, страдающими зависимостями, созависимостью и расстройствами личности, показывают: искажённое восприятие, уходящее корнями в ранний опыт отношений с матерью, способно фиксировать человека в инфантильной позиции, где доминирует переживание уязвимости. Это состояние часто проецируется вовне, и человек начинает считать, что его страдание намеренно причиняется другими. В наиболее тяжёлых случаях возникает одержимость идеей мести, которая может маскироваться под благородные побуждения – стремление «исправить» другого, указать на его ошибки или заставить измениться.