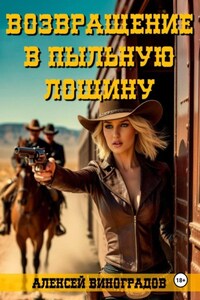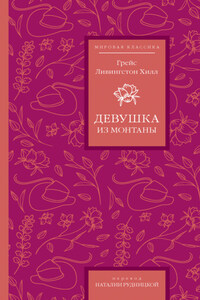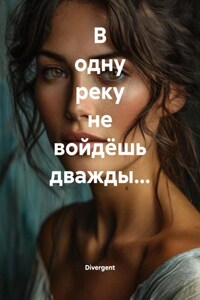I
Теплым июньским вечером 1927 года в тесном зале ресторана гостиницы «Метрополь» в центре Иркутска было не протолкнуться. Круглые столики с резными ножками, размером чуть больше табуреток, накрытые белоснежными скатертями, стояли таким плотными парадным строем, что официанты с трудом протискивались между ними. Жонглируя серебряными подносами с тарелками и фужерами прямо над головами посетителей, они напоминали команду дрессированных пингвинов в черных костюмах-тройках и накрахмаленных белых передниках.
Позолоченные электрические светильники с плафонами в форме львиных голов расплывались по стенам мутными пятнами в густом табачном дыму, оставляя в полумраке углы и ниши, где скрывались от внимательных глаз те, кто не очень хотел афишировать свое присутствие.
Публика ресторана, словно новорожденная зелень в пустыне, дорвавшаяся до жизни после первого за десять лет дождя, старалась наверстать упущенное время. Под щедрым ливнем НЭПа вспыхнули голодным цветением шляпки-клош, банты, рюши, корсеты и платья всех фасонов и оттенков. Мужчины наконец сменили пропахшие порохом гимнастерки, портупеи и кавалерийские сапоги на костюмы-тройки, полосатые галстуки и лакированные туфли. В этой картине не было полутонов: все цвета выкрутили на максимум, и когда ярче уже было нельзя, добавили еще.
Стены домов и пыльные улицы еще отлично помнили проходящие колонны то красных, то белых, то интервентов, то откровенных головорезов без роду-племени. Но тем истовей теперь рвалась и стремилась советская Россия к красивой жизни – хоть на вечер, хоть на часок кутнуть на последний рубль, а дальше будь что будет.
На тесном пятачке деревянной сцены в глубине зала играл небольшой оркестр, аккомпанируя долговязой, тощей солистке в длинном сером платье с рюшами и заниженной талией, отчего казалось, что ее воткнули в цветочный горшок. В кружевной белой шали до пола и лисьей горжетке с массивной серебряной брошью, она драматично протягивала к зрителям бледные, худые руки в черных атласных перчатках с крупными перстнями и пела сочным сопрано:
Ночь надвигается, фонарь качается,
Свет пробивается в ночную тьму.
Я неумытая, тряпьем прикрытая,
Стою забытая здесь на углу.
Купите бублички! Горячи бублички!
Несите рублички сюда скорей!
И в ночь ненастную, меня несчастную,
Торговку частную ты пожалей.
Во время припева многие гости подхватывали “купите бублички, горячи бублички!“, отчего голос певицы растворялся в этом нестройном хоре. Посетителей такое ничуть не смущало, как и то, что “Бублички” пели по нескольку раз за вечер.
***
Дрожащее пламя вспыхнувшей спички выхватило из полумрака лицо мужчины лет тридцати пяти, со светло-карими глазами и ухоженными каштановыми усами, из густых зарослей которых выглядывала папироса. Он прикурил, затянулся и, выпустив дым, посмотрел на девушку у окна.
Девушке было от силы лет двадцать. Худенькая, невысокого роста, с короткой стрижкой «гарсон» и уложенными лаком локонами, она была одета только в нижнее белье: тонкую небесно-голубую тунику чуть выше колена с белыми кружевными бретельками, телесного цвета корсет со свисающими по бедрам застежками и черные шелковые чулки. Спрятавшись за плотной шторой, она рассматривала прохожих на улице из окна второго этажа гостиницы.
Свет окон двухэтажного деревянного «Метрополя» отражался в грязных лужах разбитой проезжей части, придавая им немного праздничного лоска.
На перекрестке перед гостиницей суетился торговец газетами – чумазый светловолосый мальчуган лет десяти, в выцветшей рубахе и широких брюках, сшитых из старого взрослого пальто и подпоясанных бельевой веревкой. Худой, загорелый, босоногий, с кипой газет под мышкой, он громко, с сипотцой, выкрикивал заученные речевки: