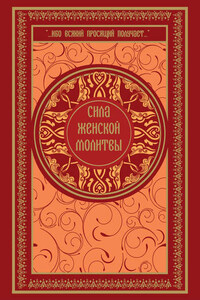Коридор тянулся узкой, почти задушенной кишкой между ярусами, как будто сам металл станции не хотел, чтобы здесь ходили живые. Он был слишком тесен, чтобы кто-то решился протащить по нему ящик или тележку. Он существовал только для прохода – редкого, случайного, словно сам воздух в нём отвык от дыхания.
Стенки – если их можно так назвать – представляли собой сросшиеся, кое-как подогнанные панели от разных эпох и разных конструкций. Одна матовая, покрытая мелкой сеткой трещин… Другая – с облупившейся краской, когда-то зелёной, теперь же ржаво-бурой; третья и вовсе была частью бывшего обшивочного щита, в котором зияли отверстия для давно снятых креплений. Всё это выглядело, будто кто-то лепил проход из металлолома, не заботясь ни о гармонии, ни о прочности.
Потолок низко нависал, со срезанными углами, под которыми жались старые кабели. Где-то они торчали наружу, обнажённые, и тихо потрескивали, словно скверные насекомые, готовые впиться в плоть. Иное место было залеплено клочьями изоляции, высохшей и серой, напоминающей мертвую кожу.
По полу кое-где валялись отвалившиеся куски обшивки, щепоть каких-то гаек, одинокая загнутая пластина. Здесь пахло железной пылью и чем-то ещё – старой гарью, которой давно не было, но воспоминание о ней въелось в воздух. Каждое движение отдавалось глухим эхом. Шаг… Скрип… Даже вздох звучал здесь так, будто его проглатывала сама станция.
Места, где стены сходились особенно тесно, были испещрены длинными рыжими потёками ржавчины, и они выглядели как застывшие ручейки крови. А где-то в глубине, в изгибе коридора, зиял перекошенный проём – сквозняк тянул из него холодом, словно из трещины в старой гробнице.
Стороннему наблюдателю могло показаться, что этот коридор жил какой-то своей, чуждой всему живому, жизнью. Лампы, вмонтированные кое-где, светили усталыми, жёлто-белыми всполохами, моргали и подрагивали, будто их мучили кошмары. И каждый, кто ступал сюда, чувствовал, что станция не просто стара, не просто собрана из обломков иных времён и миров, но хранит в себе что-то из прошлого – тяжёлое, темное, нераспавшееся до конца. Здесь всегда казалось, что шагнёшь чуть глубже – и коридор закроется за тобой, сомкнётся железным ртом и не выпустит обратно.
Тишина здесь никогда не была полной – она дышала трещинами и ржавчиной. Коридор жил вкрадчивыми, липкими звуками, словно сам металл не мог удержать в себе воспоминания.
Иногда где-то над головой тихо скрипел болт, который давно потерял свою резьбу и теперь едва держал пластину, вздрагивающую от малейшего сквозняка. Чуть дальше – протяжный стон старой балки, не то от сдвига металла, не то от собственной усталости. И всё это складывалось в тревожный, прерывистый хор – будто коридор сам шептал на языке железа и пыли.
Порой раздавался резкий щелчок от того, что где-то оголённый провод коснулся корпуса. Вспышки не было, но воздух мгновенно наполнялся резким запахом – горьковатым, жгущим, как от подожжённой изоляции. Этот запах задерживался надолго, тонкой дымкой висел у потолка, смешиваясь с тяжёлым амбре ржавчины, которая пахла мокрым железом, будто кровь, оставленная на воздухе.
Из тёмных ниш тянуло сыростью, и казалось, будто в глубине кто-то хранит воду в проржавевших баках. Там воздух был холоднее, пахнул гнилым пластиком, промасленной тряпкой, давно забытым инструментом. Иногда запах резко менялся. Вдруг на секунду прорывался дух машинного масла – густого, прогоркшего, с оттенком чего-то тухлого, словно масло пролили десятилетия назад, и оно впиталось в металл, в пыль, в саму память коридора.
Шаги редкого путника отзывались тусклым эхом. Но стоило остановиться, как коридор будто подкрадывался. Где-то в глубине начинал тихо шелестеть мусор, перекатывалась гайка, звякала упавшая капля с трубы. И любой попавший сюда, даже случайно, практически сразу понимал, что он здесь не один. Станция слушала. Станция отвечала на каждый его вдох.