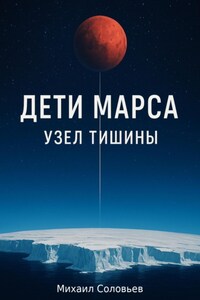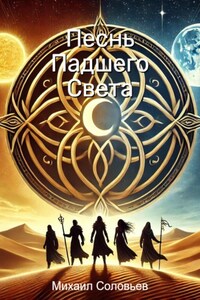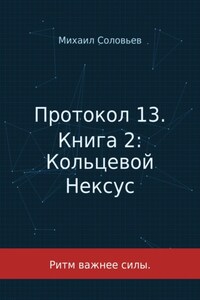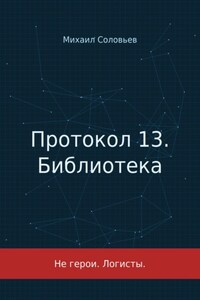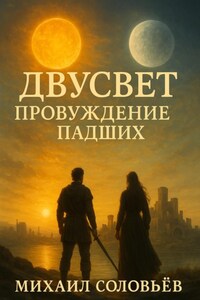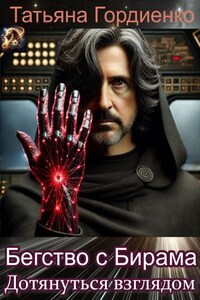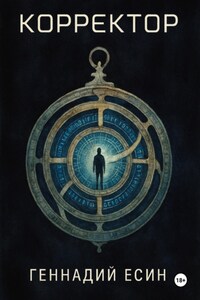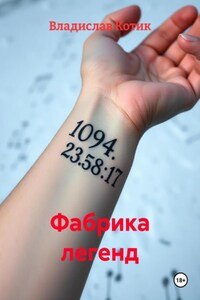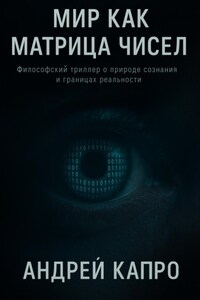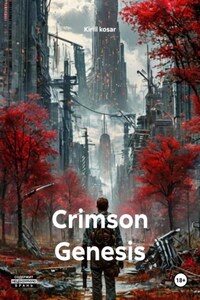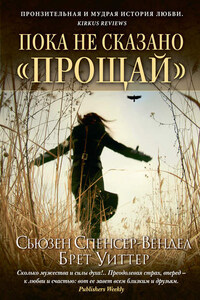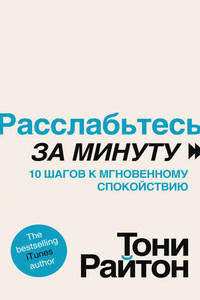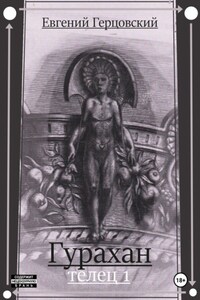До того как появилось слово «обратно», был только ветер. Не этот, терпеливый и лаконичный, а другой – хищный, сухой, рваный, который сдирал краску с куполов и песок с равнин. Тогда ещё не было ни табличек, ни «пчёл», ни привычки говорить «вода – ноль» перед тем как спорить. Была Аркадия – слово, которое пахло пылью, горячим железом и йодом. И был город, наученный жить под тонкой оболочкой, как под кожей, – ровно, экономно, без фейерверков.
Они называли себя не именем, а глаголом: «держим». Держим давление, держим ритм, держим рассвет от слишком быстрых шагов. В учебнике для младших, на первой странице, была нарисована рука на поручне, и подписано: «Начинай с этого». У взрослых был свой букварь – карты трещин в оболочках, сводки по износу клапанов, графики радиации в подвалах. На всех графиках линия ходила вверх – медленно, как старик к постели, и в этом движении не было ни капли сенсации. Сенсация пришла позже – вне графиков.
Сначала загудела «сеть» – тонко, как струна, когда её задето краем ногтя. Потом мелкая пыль, которая обычно ложилась горизонтальной плёнкой на подоконники куполов, внезапно поднялась на высоту плеча и закрутилась спиралью. Затем у первого купола у «Гидры» стрелка нагрузки перелезла в жёлтую зону и не вернулась, как будто кто-то держал её пальцем. И откуда-то с дальних плато, где виделись только багровые холмы и старые швы магистралей, пришёл короткий сигнал: «край».
Слово «край» тогда ещё ничего не значило. Потом оно стало названием целого поколения решений. Сначала перевели детей в нижние галереи и разложили коврики под лотки с водой, – если треснет, чтобы лужи было меньше. Потом вытащили из музейного запасника толстые аварийные костюмы для тех, кто был худ, – чтобы прибавить веса там, где это вдруг стало важно. И только потом дошло до «почему» – старые спутники встали в ряд не по расписанию, верхний лёд под равнинами «Сирта» отозвался стоном, похожим на живую трубу, и у края Аркадийского моря небо стало темнее, чем положено в этот час.
– Нам не хватит рук, – сказал тогда один из хранителей. – Значит, будем держать линию.
И они держали. Подкачивали воздух как воду. Обрезали через день всё, что можно обрезать, пока обрезание само не стало рутиной. В лаборатории на столах лежали стеклянные осколки с белыми хвостами, похожими на смех замёрзшей соли. В квартале «Кассини» выносили последнюю зелень из огородных ящиков – корни выживут в тёмной воде под лестницами. В поселении у «Элизия» младшие учились завязывать «пальцевые» швы на учебных шнурах – не потому, что «героизм», а потому что так быстрее.
Когда первая оболочка дала шов, никто не кричал. Просто стал тише голос на «сети». И стало слышно, как растягиваются между куполами старые нити, от которых эту сеть и назвали сетью. Они гудели разными голосами. В одной ноте слышалось «сейчас», в другой – «вовремя», в третьей – «успел». Эти три слова легли в один и тот же ритм – семнадцать и двадцать три, – и, как потом выяснилось, этот ритм умеет жить и там, где нет ни куполов, ни этих линий.
Потом научились считать другой звук – не гудение, а «щелчок», едва ниже слуха, когда шов переставал быть «правильным», становился «опасным» и в то же мгновение – «нашим». Его включали в тетради так: «шов перестал быть – стал нашим» – и рядом ставили точку. С тех пор точки стали важнее восклицаний.
Они не писали «эвакуация». Они писали «перенос». Не «земля», а «равнина», внизу, куда месяцами готовили тихие шлюзы, собирали «коробки» с крошечными архивами – гены, байты, песчинки памяти. Туда же, в этот «низ», отправили тех, кому суждено было выучить новый язык – без куполов и с другим небом. На дверях последней «школы под куполом» учительница написала крупно мелом: «Мы вернёмся». Она не знала, что эта табличка проживёт дольше самого города.