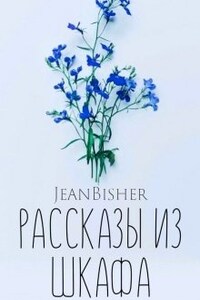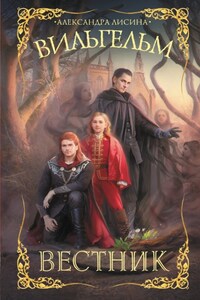От мамы тянуло холодом и колкой
грустью. Она невидящим взглядом уткнулась в стену и совсем не
шевелилась уже несколько минут. Эйверин открыла глаза и, поерзав в
кровати, тихо спросила:
— Все хорошо?
Мама встрепенулась, и лицо ее,
бледное и застывшее, ожило. Она ласково погладила дочь по волосам и
прошептала:
— Хорошо, моя родная. Спи. Я завтра
испеку пирог с ягодами.
— Ну-у-у-у, если только пирог…
Эйви перекатилась на другой край
кровати. Она улыбалась. День, который начнется с пирога, обещает
быть славным. Нужно лишь только поскорее уснуть.
Но стоило девочке сомкнуть глаза,
как к ней подобрался дурной, пугающий сон. В нем мама кричала
что-то про полночь, а папа отвечал ей еще громче, еще резче: «Я не
отпущу тебя, слышишь?! Никогда не отпущу! И мне плевать на твою
полночь!». Эйверин успокаивала себя только тем, что кошмар этот не
может быть правдой. Ее родители так сильно любили друг друга, что
крики и ссоры были им попросту не нужны.
Когда Эйви проснулась, она первым
делом повела носом: не пахнет ли пирогом? Но, видимо, мама еще не
вставала. Или папа не успел собрать ягод. Тогда девочка решила, что
обязательно ему поможет: чем скорее они управятся, тем скорее мама
испечет пирог из ароматного теста. А внутри у него будет так горячо
и так сладко, что можно обжечь язык, но остаться довольным.
Эйви выбралась из-под тяжелого
одеяла, легко спрыгнула с кровати и застыла: как ледяной водопад,
на нее хлынула пустота дома. Он показался слишком просторным,
необжитым. Старый ковер впился жестким ворсом в босые ноги, а от
яркого света, лившегося из окон, ей и вовсе пришлось
зажмуриться.
Эйверин накинула на плечи одеяло и
вышла в коридор.
— Ма-а-а-а-ам? П-а-а-а-а-а-ап? —
тихо позвала она. Ей никто не ответил.
Эйви пошла дальше, собирая большим
одеяльим хвостом пыль. Обычно в их доме царила чистота, а вот в
последнее время мама стала уж очень рассеянной. Они три раза
на этой неделе собирались прибраться, но мама вздрагивала и
говорила, что с уборкой можно и повременить. А вот прогулка на
Серый холм никак не ждет, визит к дедушке ни в коем случае нельзя
откладывать, и снежки сами собой, вообще-то, не слепятся.
Эйви радовалась переменам в маме, но
вот только губы у той все время дрожали. Будто сейчас смеется она,
а потом вдруг ни с того ни с сего расплачется.
Девочка зашла в большую комнату и
остановилась: холод точно шел отсюда. Словно окна распахнули, и
теперь сквозняк носился тут, как беспокойный пес, да кусал все, что
попадется ему на пути.
Но окна были закрыты. А возле
потухшего камина сидел отец Эйверин. Тоже потухший. В его черных
глазах всегда что-то искрилось, но теперь взгляд опустел. Совсем,
как у мамы. В руках он вертел небольшую хрустальную птичку тонкой
работы, которую пару дней назад смастерила его любимая жена.
— Папа? — спросила Эйви, чуть не
плача. Она почему-то ужасно испугалась.
— Настало время полночи, сказала она
мне! Сказала и ушла! Вот так просто! — Забормотал отец. — Так
просто… Взяла, и оставила меня… Оставила меня… Нас оставила!
Эйверин села перед отцом на колени,
пытаясь заглянуть ему в глаза. Но он закрыл лицо широкими ладонями
и страшно рассмеялся. Эйви, не понимая, что происходит, накинула на
голову одеяло и разрыдалась.
Смех отца стих, и через мгновенье
его сильные руки подняли девочку с пола. Отец усадил Эйви к себе на
колени, не снимая с нее одеяла, крепко обнял и зашептал:
— Прости меня, Птичка. Я все сделаю,
чтобы она вернулась. Слышишь? Я все сделаю.
Над Сорок восьмым городом плыли
красные облака. Но какими еще им быть, если наступила осень?
Деревья в парке посовещались, да разом сбросили чуть сероватые
листья. Может быть, под налетом маслянистой грязи листья были и
желтые, и красные. А летом, наверное, вообще зеленые. Но те, кто
родился в Сорок восьмом после того, как заработал Главный Завод, и
не знали уже, что листья бывают разноцветными. Деревья их
интересовали примерно так же, как и безликие фонарные столбы.