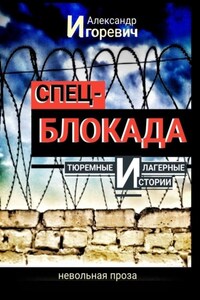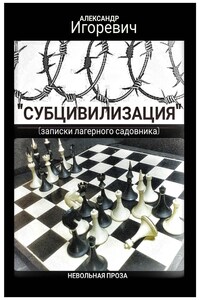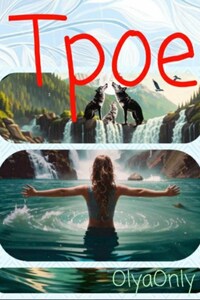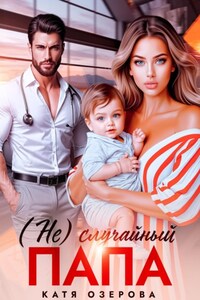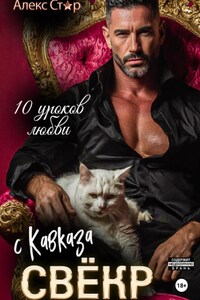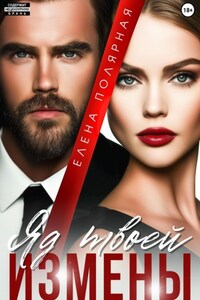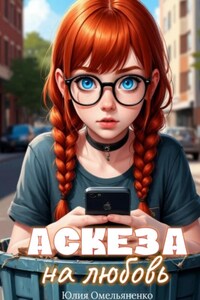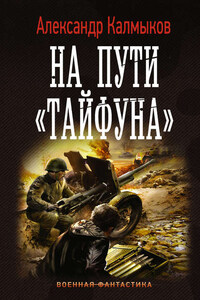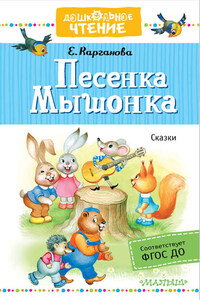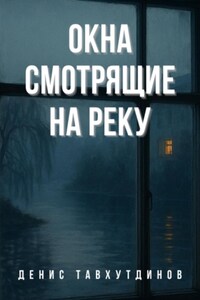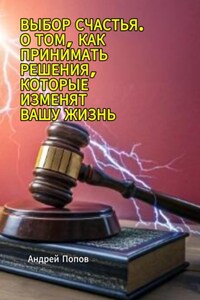Рассказы, вошедшие в сборник "Спецблокада (тюремные и лагерные истории)” являются художественными произведениями.
Рассказы содержат специфическую жаргонную и ненормативную лексику, сцены курения табака и употребления алкоголя, однако при этом не пропагандируют и не призывают к употреблению алкоголя, табака и наркотиков.
В произведениях встречаются также изобразительные упоминания о противоправных действиях, но такие описания являются художественным, образным и творческим замыслом, не являются призывом к совершению запрещенных действий.
Автор осуждает противоправные действия, употребление наркотиков, алкоголя и табака. При возникновении зависимости обратитесь к врачу.
Категория 18+ – только для взрослых!
Слово о невольной прозе (вместо предисловия)
В одном из интернет-каналов однажды мне встретилась фраза: "Заключённые пишут историю России". Фраза эта запомнилась и навела на некоторые размышления. Не чересчур ли смело и громко заявлено?
Относиться к этому можно по разному, и, безусловно, найдётся немало скептиков, кто станет возражать. Найдутся и те, кто даже будет возмущаться, а кто и просто презрительно усмехнётся…
Действительно, из окон верхних этажей обзор и шире, и, вообще – помасштабнее. Однако при этом нельзя увидеть того, что творится под спудом. А из подземелья, наоборот, мало, что видно из явного, зато можно разглядеть много тайного…
Представим себе, что осталось бы от истории сахалинской каторги, если бы Чехов и Дорошевич в своё время проигнорировали свидетельства каторжан и поселенцев?
А что осталось бы от истории ГУЛАГа и вообще сталинского периода, если б А. Солженицын, В. Шаламов, В. Фрид с Ю. Дунским, Т. Петкевич и многие другие бывшие узники не оставили нам своего литературного наследия?
Честные и объективные ответы на эти вопросы при всех оговорках и допусках будут явно не в пользу оппонентов, настроенных недоверчиво или скептически.
Итак, заключённые пишут историю России…
На самом деле, говоря о тюремной и лагерной прозе, надо понимать, что это не жанр в прямом смысле слова. Точнее, употребляя слово "жанр", в данном случае нужно сознавать его условность. Ведь книги, написанные заключёнными или бывшими заключёнными, вовсе не обязательно должны содержать арестантскую тематику или иметь какое-то субкультурно-шансонное звучание. И, напротив, профанации в виде околокриминального чтива с налётом блатной романтики и надуманными эпизодами из "тюремной" жизни, авторов которых сия горькая чаша никаким боком не задела, вряд ли стоит причислять к невольной прозе.
Говоря о тюремной литературе, надо также иметь в виду, что её авторами могут быть не только заключённые. Среди писателей, работавших по такой специфической теме, были и бывшие охранники (достаточно вспомнить хотя бы С. Довлатова), журналисты, врачи, психологи, правозащитники. Да и просто те, кто смог досконально вникнуть в суть вопроса.
В этой связи вспоминается "Зелёная миля" Ст. Кинга. Эта замечательная книга настолько безупречно написана, будто её текст продиктован лично главным героем по горячим следам с места событий. При этом, насколько помнится, знаменитый автор этой книги не был ни заключённым, ни служащим тюрьмы.
Или, например, А.П. Чехов. Он тоже в тюрьме не сидел, как и журналист В.М. Дорошевич. Однако их знаменитые произведения о сахалинской каторге – не что иное, как бесценные документальные свидетельства, поскольку они были созданы на основе личных впечатлений от того, что писатели увидели своими собственными глазами при посещении Сахалина и что услышали непосредственно от каторжан.
Впрочем, не будем теоретизировать на этот счёт. Это хлеб специалистов: литературоведов, книжных обозревателей и критиков. У нас иные задачи.