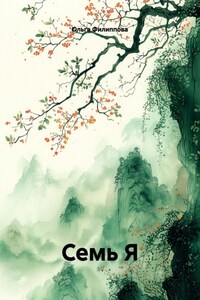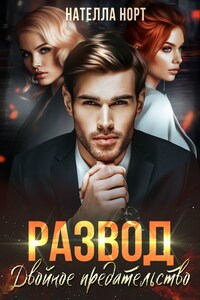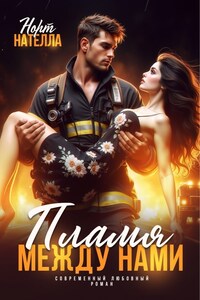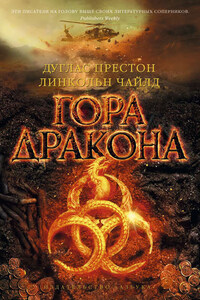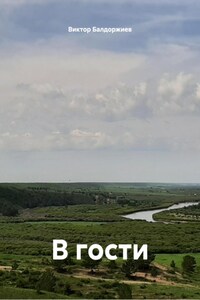Казалось, сам Вельзевул, князь воздуха и порыва, зажёг огни в огромной раковине Мариинского театра. Тысяча свечей, отражаясь в бархате лож и золоте балюстрад, плясала в зрачках застывшей, разодетой толпы. Воздух был густ и сладок от запаха расплавленного воска, духов и человеческого дыхания.
И в центре сего ослепительного водоворота была она – Кармен. Не Лиза Оболенская, родившаяся в поколеньях Рюриковичей, но – Васса. Пламя, облечённое в багряные шелка. Надрывный, как стон самой страсти, голос её не пел, а исповедовался в некоей вселенской ереси – ереси свободы.
Любви не сули мне напрасно… Любви не хочу я… Нет! Нет!
Она бросала вызов не только жалкому Хозе на сцене, но и всему этому затхлому великолепию, этой застывшей иерархии кружев, мундиров и орденов. И зал, зачарованный, внимал её кощунству, аплодируя ему.
За кулисами, в мире голых кирпичных стен и тусклых газовых рожков, царствовал иной воздух – пахший потом, пылью и древесной стружкой. Здесь, в своей уборной, Васса, вновь ставшая Лизой, смывала с лица багрец и сажу. Триумф испарился, как пот с кожи. Осталась лишь свинцовая усталость, проникающая в самую глубь костей.
Дверь отворилась, впустив волну аплодисментов и тяжёлую, надушённую фигуру князя Георгия Волынского. —Княжна, вы были божественны! – голос его был сладок, как переваренный сироп. – Этот огонь, эта дикость… Как вам удаётся скрывать сие пламя в салонах? «Вы хотите сказать— в клетке», – подумала Лиза, не поворачиваясь. – Искусство, князь. Всего лишь искусство. – О, нет! Это сама природа! Я заказал ужин у Кюба… В его взгляде была не просьба, а уверенность в праве. Праве сильного, богатого, знатного. Праве, против которого только что восставала её Кармен.
Тут же явился и директор Сергей Дмитриевич, озабоченный, с потными ладонями: —Лизавета Владимировна, осчастливьте, после ужина один лишь романс! Для великого князя… Он в восхищении!
Она стояла меж ними, как меж двумя зеркалами, отражавшими две её несходные ипостаси: желанную добычу и доходный проект. И ни в одном из них не было её самой. Той, что тосковала по чему-то настоящему, не придуманному, не купленному, не разыгранному. По тишине, в которой слышен был бы не рев толпы, а единственный, нужный звук.