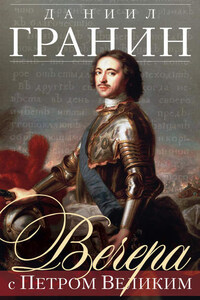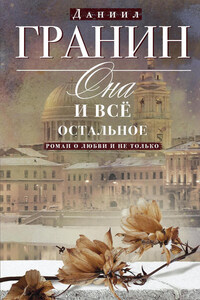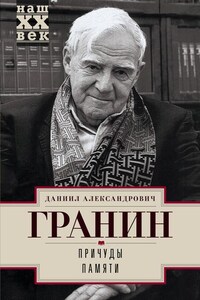Прибрежный корпус санатория стоял заколоченный. В нем жили летучие мыши, просто мыши и привидения. После ужина, раздвинув доски, мы поднимались по широкой мраморной лестнице, мимо разбитых ваз, шли через залы на галерею. Под ногами хрустели осколки бутылок, валялись бумажные стаканчики, окурки. Линолеум был содран, перегородки разобраны, углы завалены железными кроватями, обои висят лохмотьями. Разруха обнажила старый дворец. В большом зале остался ломаный камин, весь заваленный бутылками. Пахло пометом, мочой, тленом.
Мы выходили на галерею. От парка поднималось тепло. Был виден залив, над темным обрывом горизонта в небе горело розовое зарево вечернего Петербурга.
В парке шумел водопад.
Молочков рассказывал, кто тут гулял при Петре, при Екатерине. Он их всех знал.
Привидения иногда спускались в парк, их видели в каменных беседках.
На галерее стояли скамейки, круглый столик и одно плетеное кресло. Оно было отдано профессору Челюкину.
В нем все соответствовало крупному ученому: аккуратная седая бородка, перстень, глубокий бас, даже имя-отчество – Елизар Дмитриевич. Занимался он лесными букашками-вредителями, обожал всю эту суетливую мелочь – жучков, червячков, таракашек, написал о них несколько монографий. Леса, которые они портили, он тоже любил.
– Человек – это не только человек, – возглашал Елизар Дмитриевич, – это еще и звезды, и божья коровка, и гадюка.
Санаторий назывался «Канюк». Говорили, что есть такая птица. Больные называли его «Каюк». Это было справедливо, санаторий разваливался. За нами никто особо не смотрел, мы жили свободно, лениво, Гераскин приносил «маленькие», Антон Осипович – соленые огурцы и соленые помидоры, раздавал их, спрашивал: «Что сказал Чехов?» – и сам отвечал: «Сколько ученые ни думали, лучше закуски, чем соленый огурец, придумать не могли».
Антон Осипович соблюдал порядок – мы должны были произносить тосты, чокаться, пить с перерывами и без принуды.
Первым хмелел Молочков. Если его не завести, то он удалялся в себя, что-то шептал, бормотал, чему-то улыбался. Заводили его на исторические темы. Он был историк, хотя всячески открещивался, утверждал, что он всего лишь учитель, дилетант, недоучка, что у него нет научных работ.
Всю жизнь он увлекался петровским временем; стоило ему начать рассказывать про Петра, голубые глазки расцветали, голос креп, вялое лицо оживало.
В том, петровском, окружении у него имелись друзья и недруги, придворные дела волновали больше, чем нынешние.
Однажды он появился расстроенный, хлопнул стопку водки не закусывая, еще одну, после чего сообщил, что в Лондоне на аукционе продали архив Петра Андреевича Толстого. Кому – неизвестно. Наши, конечно, проморгали, да и наверняка не стали бы тратиться. Хоть бы одним глазком взглянуть – что там было. Видать, те документы, что Толстой вывез при заграничной своей командировке.
Петр Андреевич Толстой, пояснил он Гераскину, был правитель Тайной канцелярии, крупный сановник, может, третье лицо в государстве – примерно как Берия при Сталине, если считать вторым Маленкова. Что он мог вывезти? По-видимому, компромат на некоторых деятелей. Куда-то в надежные места пристроил. За такие материалы он, Молочков, все бы отдал.
Гераскин на это засмеялся:
– Да что у вас есть? Одно название – учитель. И то уволенный. А учитель, известно, низший член нашего общества.
Специальность Гераскина была резать правду-матку, и он резал ее с удовольствием, поскольку видел себя представителем исчезающего класса пролетариев. С падением советской власти, говорил он, царство рабочих и крестьян кончилось. Взять нашу компанию – профессор, учитель, чиновная шишка – это Антон Осипович; не то актер, не то художник, не разбери-поймешь, – это Серега Дремов и им подобные, один он, Евгений Гераскин – представитель прежнего Его Величества рабочего класса, ныне шофер-дальнобойщик, занятый перевозками сомнительных грузов по сомнительным адресам.