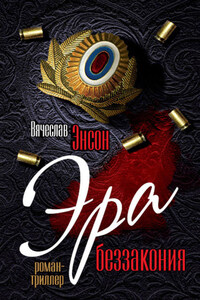В двенадцать лет со мной случились две вещи – я попала в рабство и Джексон.
С рабством было всё просто.
Двенадцатилетнему ребёнку очень трудно объяснить, что жизнь несправедлива, и умирающая от рака мама – это, вообще-то, для этого грёбаного мира в порядке вещей. Я сопротивлялась самой этой идее изо всех своих детских силёнок, не желая слушать уговоры и убеждения родителей. И в какой-то момент мне очень захотелось выплакаться и выкричаться, найти, вычислить, придумать осязаемых врагов, с которыми можно бороться, но всё же мысль забраться в лес была так себе идеей.
Хотя бы потому, что мой плач и крики были услышаны. Вопль о том, какие «все сволочи и не пошли бы они все!», был прерван.
– Куда пошли? – заинтересованно перебил мой рёв глубокий и густой, как патока, женский голос, и я обернулась, отскочив от камня, по которому колошматила кулаками. Женщина была не местной. Вот совсем не местной – длинноватое бледное лицо с крупными чертами и светлыми, будто выцветшими глазами. Ростом она была выше любой взрослой девушки или женщины, которых я знала. На женщине были самые обычные джинсы, самая обычная толстовка, через плечо перекинута самая обычная тканевая сумка с торчащей оттуда бутылкой воды. Русые волосы были завязаны в хвост, а сама она облокотилась о дерево на краю небольшой полянки, в центре которой прочно обосновался обросший мхом камень. Она определённо была чужой для нашего хоть и не совсем захолустного, но определённого небольшого провинциального городка, где даже если и не знаком с кем-то, но он всё равно вроде как свой.
Местной я бы ещё нагрубила в пылу той ярости и ненависти, которая горела в груди, не давая даже толком дышать. Но чужачке…
– Никуда, – буркнула я, отступая от камня и пряча за спину ладошку с каплей крови – один из выступов камня оказался неожиданно острым. Женщина вздохнула, порылась в кармане, демонстративно вытащила оттуда конфету и упаковку салфеток, и медленно двинулась ко мне.
– Руку покажи, горе луковое, – произнесла она, на ходу разворачивая конфету. С каждым её шагом злость во мне уходила, будто незнакомка её то ли впитывала, то ли отгоняла. Конфету она мне поднесла к губам и я послушно открыла рот. Сладость почему-то мгновенно меня утешила. Все строгие наставления взрослых о том, что лучше с чужаками не разговаривать и уж точно у них лучше ничего не брать, вылетели из головы. Женщина завораживала – странными плавными движениями, странными глазами, странным голосом, от которого у меня по загривку бежали мурашки.
А она тем временем чуть ли не силой вытащила мою ладошку из-за спины, качнула головой, легко подула на царапину и капнула туда воды из бутылки. А затем стала салфеткой снимать верхний слой пыли и грязи.
– Тебя обидел кто-нибудь? – спокойно спросила она. – Здесь недалеко есть полицейский участок, я могу туда тебя от…
– Я знаю, где он, – прошипела я, морщась уже от вполне реальной боли. Царапина оказалась неожиданно глубокой. Женщина коротко глянула на меня, выбросила грязную салфетку, взяла чистую и снова стала аккуратно касаться раны. Она не улыбалась, но вокруг глаз вдруг у неё разбежались морщинки, и я немедленно надулась, понимая, что ей смешно.
– Вы из столицы, что ли? – недовольным тоном спросила я, надеясь, что она сама оставит меня в покое.
– Я совершенно с другой стороны. А тебя мальчик бросил, что ли? – в тон мне спросила она, и эта её мысль про мальчика вдруг показалась мне такой дурацкой и смешной на фоне маминой болезни, что чуть не вызвала новую истерику с потоком слёз. А женщина, будто уловив эту перемену в настроении, резко сжала обе моих ладошки руками и пристально вгляделась в глаза. – Нет, тут не до мальчиков, тут всё по-настоящему… родители… болеет кто-то? – а вот этот вопрос был участливым и осторожным.