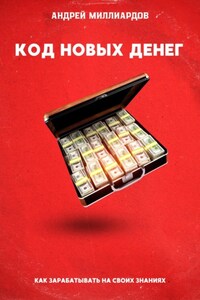Матвей Громов обмакнул в чернильницу
перо и вопросительно взглянул на начальство. Прохор Петрович, насупясь,
вчитывался в мелко исписанную бумагу. Перед ним на краешке лавки сидел
сбледнувший мужик, мял в лапище малахай и пугливо косил вокруг заплывшим
глазом. Видно, силился разглядеть дыбу и жаровню с углями.
Наконец Прохор поднял на сидевшего
глаза, тот невольно прянул назад, да и рукой помавал[1]
— явно перекреститься собирался. Матвей усмехнулся.
— Ну, сказывай… — Прохор, не глядя,
махнул Матвею, чтоб записывал.
— Что сказывать, ваше благородие? —
Мужик нервно сглотнул.
От него нестерпимо несло луком, дух
был так ядрён, что даже Матвей учуял, хотя сидел в дальнем углу.
— Поперву, кто таков?
— Семён Кутепов, сын Епифанов,
пахотной человек из вотчины Андрея Лодыгина Ярославского уезду, — на одном
дыхании отрапортовал посетитель.
— Пашпорт имеется?
— А как же! — Мужик несколько
взбодрился, полез в малахай, добыл из него замятую по углам бумагу и протянул
Прохору.
Тот глянул мельком.
— На заработки, стало быть, отпущен?
Под оброк… Чем промышляешь?
— Извозом, ваше благородие. Покуда
зима всё одно в деревне делать неча, а лошадка у меня справная…
— Возраст, вероисповедание?
Мужик захлопал глазами и снова
сжался.
— Лет тебе сколь? Православный? —
перевёл Прохор.
— Сорок семь годов. Православный,
ваше благородие, измладу троеперстно крещусь! — вновь воспрял мужик и в
доказательство широко перекрестился на висевшие в углу образа.
— О чём донесть хотел?
Мужик поёжился, бросил испуганный
взгляд на портрет государыни за спиной Прохора и понизил голос:
— Дык… это… смотритель наш Артемий
Федосов давеча на подорожной с титлом Ея Величества таракана удавил, я-де ему
говорю — пошто Ея Величеству оскорбление чинишь? Непорядок! Так он нас лаял
матерно…
— Вас — это кого?
— Меня и Ея Императорское
Величество, — просипел мужик, тараща глаза на портрет.
Прохор Петрович хмыкнул.
— А глаз чего подбитый?
— Дык, излаял он нас скверно и в
рожу…
— В рожу… — Прохор задумчиво поскрёб
голову под париком. — А может, мил человек, всё не этак было? Напился ты
пьяный, забиячил, ну смотритель тебе в зубы и дал для вразумления, а ты побежал
на него напраслину извещать? Ну, что скажешь? Прав я?
— Христом Богом… Ваше благородие…
Как на духу, вот вам крест святой…
Посетитель закрестился и бухнулся в
ноги, звучно приложившись лбом о нечистые доски пола.
— Как на духу, говоришь… Грамоте,
поди, не разумеешь? Нет? Громов, протокол готов? Зачти ему.
Матвей быстро и чётко прочитал вслух
всё записанное и подал бумагу Прохору.
— Знаешь, за ложный извет что
полагается? Батогом не отделаешься. Ну, а коли знаешь, то вот здесь сказано: «С
моих слов писано верно», рядом крест ставь… Туманов! — В дверь заглянул
солдат-преображенец, что был нынче в карауле. — Проводи его в колодничью избу.
— За что? Ваше благородие! — Мужик
снова плюхнулся на колени.
— А ты, голубь мой, как полагал?
Извет — дело серьёзное. Сейчас арестная команда Федосова твоего привезёт и
завтра с утра будем следствие чинить. Да покуда истину не вызнаем, будете оба в
остроге сидеть.
Туманов увёл жалобно причитавшего
мужика, Прохор встал и потянулся всем телом.
— Всё на сегодня? Давай, Матюха, по
домам собираться. Ты почту разобрал? Было там чего важное?
— Нет, Прохор Петрович. — Матвей
потёр усталые глаза и стал убирать в ящик бумагу, чернильницу и перья. — Два
извета о непотребных словах, донесение тверского воеводы, на некоего Ивана
Большакова, что с портрета Ея Императорского Величества непочтительно мух
гонял. Да две бабы на базаре за место повздорили, космы друг другу повыдирали, а
потом одна на другую «Слово и дело» крикнула…