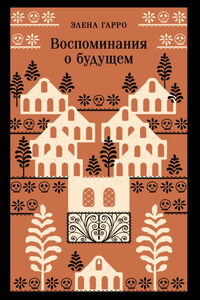I
Я здесь. Сижу на камне, который кажется вполне обычным. И только памяти моей ведомо, что он в себе таит. Смотрю на камень и вспоминаю себя. Подобно тому, как ручеек впадает в реку, я впадаю в печаль и вижу себя в этом камне. В камне, покрытом пылью, заросшем травой, заключенном в самоё себя и осужденном на вечную память и ее многоликие зеркала. Смотрю на камень, на себя и превращаюсь в разноцветное месиво эпох. Я был и я есть во множестве глаз. Я всего лишь память о памяти.
С этих высот я обозреваю себя: огромного, распростертого в иссохшей долине. Вокруг меня острые пики гор и желтые равнины, населенные койотами. Мои дома приземисты, выкрашены в белый, их кровли матовые от солнца или глянцевые от воды – засуха то или сезон дождей. Бывают дни, как сегодня, когда мне больно себя вспоминать. Вот бы совсем не иметь памяти или стать милосердной пылью, дабы избежать проклятия видеть себя.
Я помню времена. Когда меня заложили. Когда подвергли осаде. Меня завоевывали и украшали, встречая войско за войском. Познал я и неописуемый экстаз войны, рождающей хаос и неопределенность. Затем меня оставили в покое, пока вдруг не появились новые воины. Они выкрали меня и перенесли на новое место. И вот уже я в зеленой и светлой долине, у всех на виду. До тех пор, пока иная армия под предводительством молодых генералов не явилась под стук барабанов, чтобы захватить меня и вознести на гору, полную воды. И узнал я о водопадах и обильных дождях. Там провел я несколько лет. Когда же Революция впала в агонию, ее последняя армия, охваченная поражением, забросила меня в это умирающее от жажды место. Многие дома мои уничтожил огонь пожара, а их хозяев – огонь из ружей.
Помню, как кони в полном безумии метались по моим улицам и площадям, помню вопли испуганных женщин, захваченных всадниками. Когда последние из них скрылись из виду, а пламя уступило место пеплу, из колодцев начали выходить юные девы, бледные, онемевшие и разгневанные из-за того, что не смогли вмешаться в погром.
Мои люди смуглы. Носят белые накидки, ходят в кожаных сандалиях. Носят на шее золотые цепи или платки из розового шелка. Они неспешны, немногословны, и взгляд их устремлен к небу. Вечером, на закате, они поют.
По субботам церковная площадь, усаженная миндальными деревьями, наполняется торговцами и покупателями. Сверкают на солнце разноцветные бутыли с газировкой, переливаются ленты, горят бусины, розовеют и синеют ткани. В воздухе витают ароматы жарений и дровяного угля, запахи пьяных глоток и ослиных стойбищ. Ночь взрывается шумом петард и разборок: рядом с батареями кукурузных початков поблескивают мачете и масляные лампы. По понедельникам, рано утром, шумные захватчики уходят, оставляя мне парочку мертвецов, которых подбирают люди из городской управы. Так и повторяется, сколько себя помню.
На площади, где растут тамаринды, сходятся все мои улочки. Одна из них убегает дальше всех, пока не скрывается из виду на выезде в Кокулу. Вдали от центра уже редок камень, которым она вымощена. Чем ниже спускается улица, тем выше дома по ее обочинам – они растут на насыпях высотой два или три метра.
На этой улице стоит большой каменный дом с парадным входом в виде буквы L и садом, полным растений и пыли. Время здесь застыло: движение воздуха остановилось после стольких слез. В день, когда из дома вынесли тело сеньоры Монкада, кто-то, кого я уже не помню, распустил слуг и запер ворота. С тех пор магнолии цветут без зрителей и дикая растительность покрывает дворовые плиты; пауки свершают долгие прогулки по картинам и пианино. Давно умерли пальмы, когда-то дававшие тень, и ни один звук не проникает под своды коридора. Летучие мыши гнездятся в позолоченной лепнине зеркал. Рим и Карфаген, стоящие друг против друга, до сих пор нагружены плодами, падающими с веток от зрелости. Всюду забвение и тишина. И тем не менее сад в моей памяти до сих пор залит солнечным светом, пестрит птицами, оживлен беготней и криками. Дымящаяся кухня в фиолетовой тени жакаранд, стол, за которым завтракают слуги семьи Монкада.