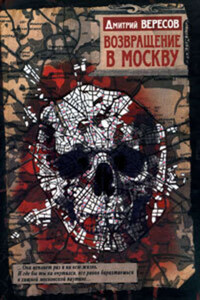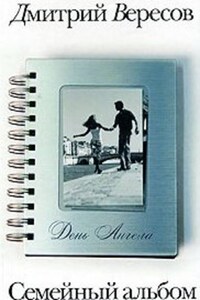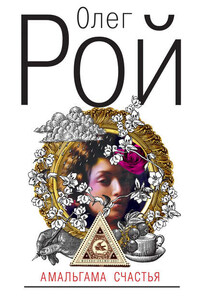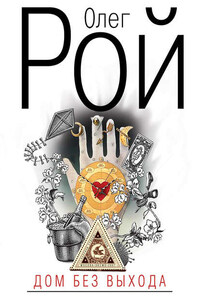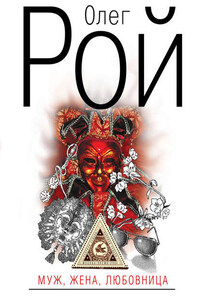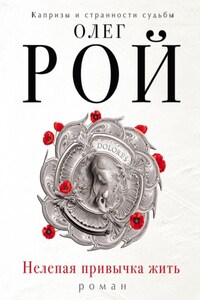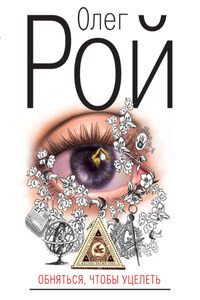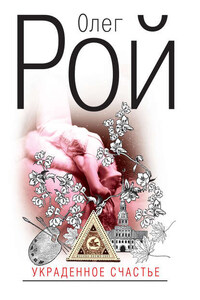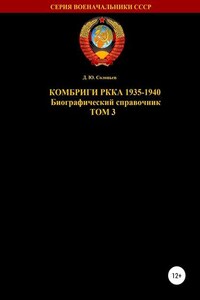Вместо предисловия – об одной давно охаянной легенде, если позволите. Пригодится ли она для нашего повествования, не знаю заранее. Но вдруг? Вдруг что-то да свяжется, замкнется, вспыхнет? Озарится? Хотя бы и тысячелетний прах. На нем стоим, месим его, топчем в деловитой суете и праздных переплясах, неблагодарно попираем, если задуматься… Впрочем, типун мне, обсказавшись! Не прах, не прах – культурный слой! И бесценные клады, и отребья. И святость, и гадость. Конгломерат. Вот и отколупнем для начала кусочек плотно слежавшегося тысячелетия, провертим дыру по краешку, продернем шнурок, да попробуем на шею, а? Не страшно?
О том, как родилась Москва, мало ли какие слухи ходят и всегда ходили. Возможно, и до времен ходили под видом пророчеств. Изречено слово, считай, сбудется, так ли, наперекосяк ли. И чаще не так, а… известное дело, как, особенно в наших широтах, где и камень крепок размывают внешние и подземные потоки. Пещер-то под Москвой! Пещер-то, погибельных ходов, полостей!..
Камень крепок потоки размывают, где уж тут устоять словесной субстанции! Каждый у нас – и, скажем с гордостью, с этим ничего не поделаешь, как ни бей по голове хотя бы и до смерти, – каждый у нас, всякое слово глубоко в душе чтя, в особенности прописанное, волен, однако, понимать все так, как понравится, и принимать на веру то, что более ему по нраву. И приватные склонности и верования наши, будто разнотекущие потоки, размывают веское изначальное слово, изъязвляют его, и монолит со временем делается прободенным, хрупким, изъеденным лжой, как ржой. Собственной карикатурою становится, коряв да шершав, но трагически не теряет первоначальной сути своей, все глася и глася, глася неблагозвучнее и косноязычнее со временем. А мы-то!.. Мы-то рады бываем насмеяться над юродством! А уши мы отрастили, чтобы слышать не глас вопиющего, а, во-первых, себя и себя, а также лестные речи по своему поводу. И, бывает, чем ученее человек, тем…
Ученый дьякон Тимофей Каменевич-Рвовский, кстати сказать, лет триста с лишним назад прозябая в трудах размеренных и праведных в неблизком к Белокаменной Холопьем монастыре, что на реке Мологе, уносился, должно быть, грешною мечтою в столицу, как многие и до, и после него уносились. И соблазнялся дьякон верою, что начало городу положил внучок праотца Ноя князь Мосох Иафетович. Идея и впрямь была соблазнительная, гордыню приятно щекочущая, ибо какая древность! Какая древность! И куда там Риму, хотя бы и Первому, не то что Третьему, новоявленному и последнему. Святая осиянная древность, в восторженный трепет ввергающая.
Рассуждать о том, какая злая судьба принесла Мосоха Иафетовича в наши дикие места, дьякону, должно быть, лень было, а то и не полагалось, а сплетен по этому поводу не ходило никаких, к тому времени сплетни изошли талыми водами, но осталось твердым осадком предание. О чем дьякон Тимофей и сделал запись, да еще, досуг имея, приженил словес к преданию, грешник такой.
Фэнтези бы нашему ученому дьякону сочинять в духе эпических «Звездных войн», а не над летописью с молитвою корпеть. Что за имена такие у основателей великого города, дьякон Тимофей?! Иные какие-то имена, невесть из какого космического запределья прорвавшиеся, приснившиеся, уворованные и умышленно разъятые до сердца, чтобы слепились из останков имена главные, до сей поры еще живые и полноводные, не изведенные в катаклизмах. Как это ни странно.
Так вот, жену Мосоха Иафетовича звали якобы Ква, и соединил Мосох Иафетович в вечном супружестве имена в названии главной реки, и получилась, понятно, Мос-Ква. У Мосоха Иафетовича и дети были, если верить дьяконусочинителю: сын по прозванию Я и дочь то ли Вза, то ли Вуза. И речка, питающая Москву своею молодой водой, стала называться Явзой. Или Явузой, что ли. И на холме, высоко над водою, Мосох обустроился основателем.