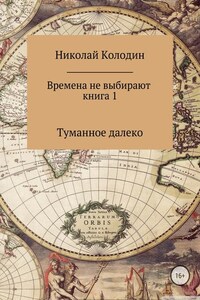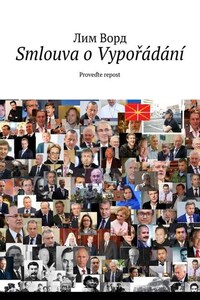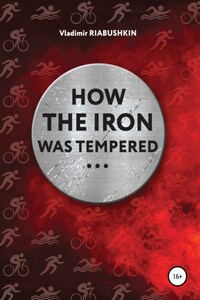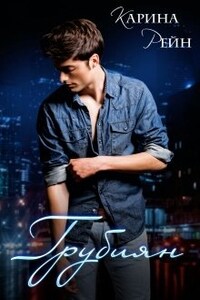Всякому свой час, и время всякому делу под небесами: время родиться и время умирать, время насаждать и время вырывать насажденья, время убивать и время исцелять, время разрушать и время строить, время плакать и время смеяться, время рыданью и время пляске, время разбрасывать камни и время складывать камни…
Из Эклесcиаста
СКВОЗЬ ПАМЯТИ СОН
Первые воспоминания… Они смутны, расплывчаты, неясны, скорее подсознательны, чем осознанны, скорее чувственны, чем материальны…
…Помнится голубое небо над головой, и я плыву под ним, наблюдая за причудливыми облаками. Опустив глаза ниже линии горизонта, вижу согбенную спину матери в темном пальто, которая с натугой тянет детские санки, а в них кутаный-перекутаный, так что не шелохнуться, лежу я. Мать везет меня от села Карачарова в город, который называется Муром. Меня, трехлетнего, на саночках – туда, где работает подружка матери. Она, по её словам, хороший детский врач и «большой специалист по легочным болезням», а зовут её Милочка.
Она живет в нашем комсоставском доме, где, впрочем, от командирского остались воспоминания да жены-вдовы. По вечерам они смолят на кухне цигарки и поют по-украински с подголосками песни, в основном протяжные и грустные: «Вот кто-то с горочки спустился», «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина» – и подобные, полные любви и печали.
В кабинете у Милочки холодно, но меня раздевают, делают рентген: для этого, собственно, и привезли сюда, потом Милочка долго-долго слушает меня своей маленькой трубочкой, а позже выносит приговор: «туберкулез». Мать вскипает слезами:
– Что делать-то?
Милочка отвечает отстраненно, и не подруге словно, а обычной пациентке:
– Нужен пенициллин для лечения и молоко с рыбьим жиром для усиленного питания. Продай, что можешь, и купи, иначе его не спасти.
А что продавать? В доме ни одной вещи своей, даже стулья и вешалки все с инвентарным воинским номером. Одежды почти никакой. И всё же нашлось что. Перед самой войной отец подарил матери дамские часики, и не простые, а золотые, Сломались они моментом и валялись в коробке с пуговицами, иголками, нитками и дождались часы часа своего. Именно на них был куплен пенициллин. Что было продано на молоко и рыбий жир, не помню. Но выходили мать с Милочкой меня, я ожил и выжил, хотя болел часто и в дошкольном детстве перенес все мыслимые и немыслимые болезни от обычной скарлатины и свинки до экзотической малярии, которая в Муроме была не столь редкой.
Из всех свалившихся на меня медицинских напастей запомнил одну: закрывались глаза. Закрывались, и все. Но война, никаких больничных, как, впрочем, и выходных, и отпусков, – ничего, только работа по 12 часов в смену. Мать оставляла меня одного, я не боялся и даже, напротив, ждал её ухода. Глаза не все время были закрыты, время от времени веки приоткрывались узкими щелочками, и тогда я начинал обшаривать нашу довольно просторную, практически без мебели, комнату в поисках съестного.
Уходя, мать резала пайку хлеба на три равные части: «На завтрак, на обед и на ужин». Я согласно кивал, слушая её наставления. Как только закрывалась дверь и стихали шаги на лестнице, потом хлопала входная дверь, набрасывался на хлеб, особенно соблазнительный на ослепительно чистой тарелке с Красной звездой и вензелем с буквами «КА», то есть Красная Армия. Все три порции уничтожались махом, наступало сытое блаженство, но ненадолго, потом голод приходил снова, и я начинал кружить по комнате в поисках хоть чего-нибудь, что можно съесть.
С левой стороны от двери стоял большой шифоньер, массивный и тяжелый, с двумя створками. Одна, большая, открывала пространство для платьев, пальто и костюмов, и было то пространство пустым, если не считать двух-трех материнских платьев. Меньшая створка nрикрывала полки, на которых складывалось постельное белье, посуда, съестные припасы (хотя припасы – громко сказано), но тут хранились соль, какая-никакая крупа, горох, чечевица. Обычно все лежало на самой верхней полке. Надеюсь, понятно почему!