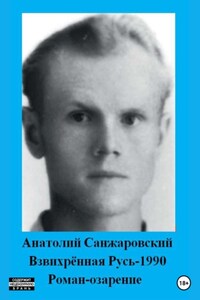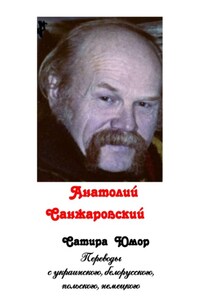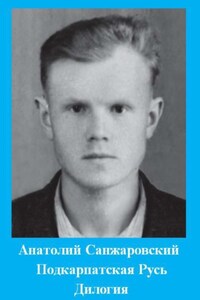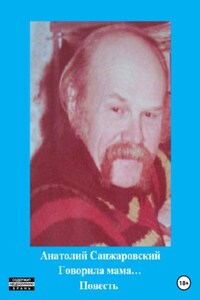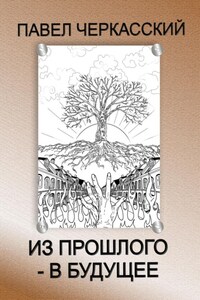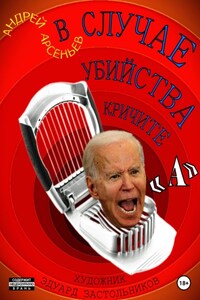1990-ый.
Май.
Грозовой канун распада Союза.
Взвихрённая Россия шумит сходками, митингами, демонстрациями.
Я бывал на них, записывал лозунги, призывы, с которыми народ вышел и на улицы столицы, в том числе и на Красную площадь.
Кажется, мне повезло. В какой-то хоть малой мере мне удалось записать то, что составляло суть жизни нашей страны в трудный, переломный момент.
У этого романа есть неоспоримое преимущество. Он рождался в те дни, когда происходили описываемые события. Событие ещё варилось, а начало его уже лилось на бумагу.
Меня могут упрекнуть, что я утемнил краски.
Ну а где видано, чтоб смутное время было сиропно-розовое?
Каюсь.
Человек я тщеславный. Всю жизнь хотелось нравиться.
Правде.
В любви памятнее всего её ошибки.
Л.Леонидов
Райвоенком Дыроколов круто обмишурился, вгорячах забыв посадить сарайную дверь на щеколду, и в самый вожделенный распал вынужден был вскочить. Вошёл кто-то непрошеный.
– Ну что, любвезадиристый генералиссимус, не облопался чужой сметанки? – жёстко спросил холодный твёрдый голос, и при этих словах Дыроколову почему-то помстились комковатые желваки на крупном литом лице, хотя он не видел ни лица, кто вошёл, ни самого вошедшего. Было темно.
– Лежать, курвиметр! – приказал голос. – Лежать! Не то кочан срублю! В один мах!
И военком послушно лёпнулся на колени, какой миг гордо постоял за себя на коленях и безо всякого энтузиазма, по обязанности свыше привалился к перевёрнутой уже кверху шароватым задом Раиске.
– Ложись, сволота! Харитон к харитону! Непонятки? Харя к харе! Как давеч!
Призрачный морозный обушок топора предупредительно остукал Дыроколова по плечу, и он, сглатывая слюну, шепнул Раиске:
– Переворачивайся снова на гаубицу.[1] Раз велено…
– А вот тепере, – продолжал незнакомый и вроде знакомый Дыроколову голос, – однима ударком обе башни смахну! Чтоб не тратиться на второй замах…
– Колюшок! – пискнула снизу Раиска. – В расплатку я пойду одна… А Виталь Васильча не патронь… Они с радостью к нам… Я и охмелела…
– Да, да! – торопливо подтвердил военком.
– Не дадакай, кислое чмо! Чужая соковитая баба какому козлу не в радость?
– Колюшок, я на правду веду… Виталь Васильч принесли… Сынка наш живой…
– Сына к чаму в эту грязюку ватлать? Мы кого в январе схоронили в цинковом гробу? Соседского мышонка? Так чего везли парня из самого из Афгана? А топерясь живой?
– Письмо показали… Я по руке уведала… Не знала как и…
– … отблагодарить? Полезла под него благодарить?.. Я в поле вжариваю с ночи до ночи, а этот припогонный бегемот мою бабу углаживае… Вот что, беспорточный генералиссимус Дыркин, мотай отседа, пока не повыдёргивал копыта из зада. Ещё поганить об тебе душу… А с этой мухой-пестрокрылкой я как-нить разочтусь.
Военком осторожно, в три этапа, выдохнул.
Фу-у, вроде проносит…
– Я глубоко извиняюсь, – забормотал военком, на ощупь охлопав простор у входа, где он столбиком аккуратно сложил свою одежду и теперь ничего не находил от своего столбика. – Где мой мундир?
– А почём я должон знать, где твой мундирка? Я в караул к твоим лампасам не выставлялся.
– Я тут… Культурненько сложил…
– Ну как в ба-ане. Номерок-то хоть цел? Культурненько и возьми, культура! Расположился, что дома. Пшёл, псюха!
Николай толкнул дверь, и открывшаяся воля переважила в военкоме потерю мундира. Он выскочил зайцем, круто довольный, что всё ещё живой, без единой царапинки. Благодари Бога, Виталь Васильч! А то б мог уже валяться. Голова отдельно, дырокол отдельно!