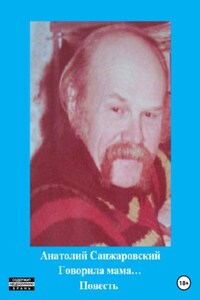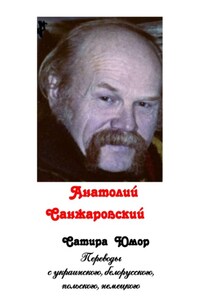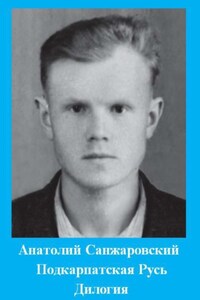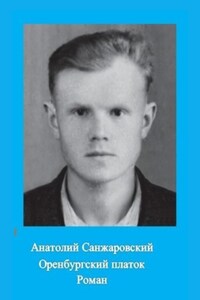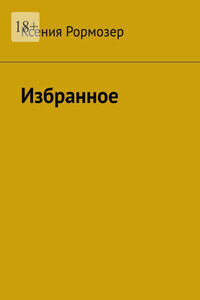Нижнедевицк…
Это уютное степное районное сельцо в шестидесяти километрах к северо-западу от Воронежа.
Сюда в шестидесятые перевели из Евдакова старшего брата Дмитрия. В Евдакове он бегал механиком на маслозаводе. И в Нижнедевицке тоже механничал. Одно время покняжил директором маслозавода. Не уякорился. И нерасторопность спихнула его снова в механики.
Вскоре после переезда Дмитрий женился и зажил отдельно своей семьёй в новом доме через три двора от наших.
А мама и брат Гриша – он работал на маслозаводе компрессорщиком – куликали в аварийном заводском бараке-сарае. Мама мучилась в нём тридцать пять лет, Гриша – тридцать семь. Мыкали горе в этом пролетарском баракко до самой смерти.
Все эти долгие годы строители «счастья на века» горячо обещали им квартиру в доме-новостройке. Только дальше жарких обещаний дело не пробегало. И получили мама и брат жильё лишь на кладбище.
Правда, уже после смерти мамы, в 1996-ом, Гриша дождался-таки уже от новой власти ордера на новую квартиру.
Счастливый, он основательно ухорашивал свой уголок.
Да переехать так и не успел.
Судьба распорядилась по-своему.
Смерть…
Двери их ветхой хилушки были так узки и малы, что в них нельзя было вынести гроб с покойником.
И гроб с телом мамы, и гроб с телом Гриши пришлось выносить в окно.
Очки, футляр положили Грише в гроб. Были у брата пухлые ноги. Их обули в тапочки. А хорошие новые туфли тоже положили. Одну туфлю под левый локоть, другую под правый. Захочет, там возьмёт и переобуется. Мама встретит его ещё на дороге.
Их могилки рядом. За одной оградкой.
И верный Гришин друг посадил в изножье печальную берёзку…
Каждый год я наезжал к своим в отпуск.
То огород поможешь вскопать или убрать картошку.
То погреб подремонтируешь.
То дровец на всю зиму нарубишь…
Всё какая-никакая подмога.
У мамушки мне всегда было добро.
Я был влюблён в её образную простую речь. Не запиши сразу – не запомнишь всё в точности. Пропадёт такая радость.
И стал я записывать за мамой.
Однажды она это заметила и очень расстроилась.
– Толька, сынок… Ты к чему мои слова кидаешь на бомагу? Потом шо, сдашь меня у милицию?
– Боже упаси! Да как Вы такое могли подумать? Я просто так… Нравится, как Вы говорите…
– А и наравится, всё одно не хватай на карандаш, шо я там ляпаю… Да мало ль шо я бегмя ляпону!?
– Успокойтесь… Не буду…
И всё же я тайком записывал.
Набежало тридцать три тетрадки.
Когда я их читаю, вижу и ясно слышу свою маму.
У неграмотной мамы я неосознанно учился писать свои книги – шестнадцать томов собрания сочинений.
В школу я пошёл в девять лет без десяти дней.
Безграмотной маме нравилось слушать, как я усердно терзал букварь.[1]
Сама она училась в школе с месяц. По чернотропу бегала. А как похолодало, как пали снега в воронежском хуторке Собацком, учёба и стань.
Не в чем было ходить в школу.
На троих у неё с братьями Петром и Егором метались в служках одни сапоги. Сапоги понадобились братьям.
Как-то мама готовила на плите вечерю.
В тот день я выучил уроки до её возвращения с чайной плантации, и мама попросила:
– Почитай мне трошки.
Я раскрыл букварь и торжественно прокричал по слогам:
– Бом-ба!
– Неправильно! – стукнула мама ложкой по кастрюле на плите. – Бон – ба!!! Ны! Ны посерёдушки воеводиха! А не твоя мыкалка