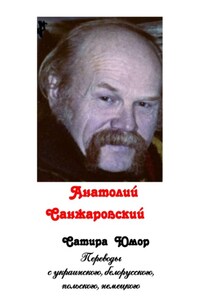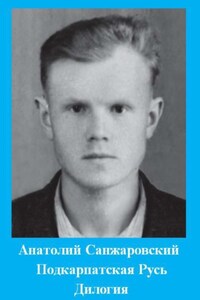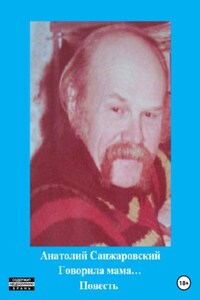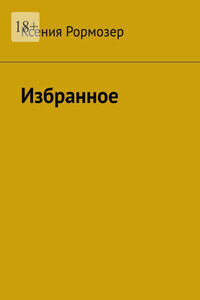От светлячка бор не загорится.
Русская пословица
Есть что-то печальное в скоротечности молодого вечера.
Совершив положенный дневной путь и отпылав дурным жаром, усталое, набухшее солнце закатно пало за соседний дом, и жизнь во дворе, кажется, начала понемногу копошиться, оживать.
Медленно, степенно вышел из сада живописный рыжий кот Варсонофий в белых носочках. В зной кот отсыпался на вытертом едва ли не в блеск его боками распадке яблони под тесной, плотной тенью, обдуваемый редкими, вялыми наскоками ветерка. Уже посреди двора и в тот самый момент, когда кот до хруста в косточках потягивался, почти касаясь животом земли, под ним промигнул крохотный облезлый цыплёнок.
Выпад курчонка несказанно подивил Варсонофия.
Удивлённо моргая, Варсонофий проследил, как цыплак весело отбегал в сторонку, как остановился, как присел. Потом Варсонофий неторопливым, ровным шагом подошёл сзади к нему, игриво потрогал белой лапкой.
Курчатко в панике повинно запищал, но с места не снялся. Страх парализовал его.
Варсонофий отошёл, сел и себе, обнялся хвостом и принялся с интересом разглядывать успокаивающегося в слабеющих, тихих вскриках пискляка.
Жалкий, тщедушный, часто и густо больно битый мягкими клювиками собратьев, он отпал, отстал от выводка, от цыплячьей кучи и всегда, в жару, в дождь, коротал долгие, вековые дни в одиночестве где-нибудь под лопушьим листом на огородчике у старого плетня. Одному ему было скучно, и он, изгнанный своими, на собственный страх и риск пробовал слить дружбу с Варсонофием.
Писк разбудил под крыльцом Милорда, хозяйского пса, рослого, разгонистого в кости.
Милорд зевнул с подвывом. Понюхал воздух.
Увидав меня в открытом окне, пёс не твёрдым со сна шагом взял в мою сторону. На ходу вспрыгнул ему на широкий, как скамейка, простор спины Варсонофий. Милорд и ухом поленился повести. Впервой ли катать рыжего варяжика?
Тревожно заоглядывался цыпушонок.
Вскинув крылышки, качнулся следом за Милордом с Варсонофием на спине.
Приблизившись, троица выжидающе уставилась на меня.
– Ну что, попрошайки, на вечерю пожаловали?
Варсонофий дёрнул усом, отгоняя липучку муху; ещё не отошедший от жары Милорд вывалил в пол-локтя язык, задышал тяжело; несмело сронил своё робкое пи-пи-пи цыплок.
Милорд на лету поймал свой кусок хлеба и, проглотив, как-то сразу погрустнел, хмуро косясь то на Варсонофия, не спеша, обстоятельно жующего чёрствую корочку под кустом сирени, то на курёнка, торопливо подбиравшего крошки и бегавшего раз за разом запивать к жестянке из-под кильки у толстой ножки лавки.
Долгий расстроенный собачий взгляд заставил меня повиниться:
– Прошу прощения, но добавки, пан Милорд, увы, не будет. Ни крошки больше… И на дух нету!
Пёс угрюмо задумался.
Мне вспомнилось, что собачий нос чувствительней человечьего почти в миллион раз.
– Может, – сказал я Милорду, – ты слышишь у меня в клетухе запах хлеба? Тогда иди и покажи… Чего ж ты ни с места? Тот-то… У самого кишки марш разучивают. Я б давно умял вашу долю, еле удержался… Вот если начальство поднесёт что, так я, слово чести, поделюсь, Милорд…
Милорд недоверчиво, сомнительно посмотрел на меня и тут же, под окном, лёг, глубоко вздохнув; увеялся за дом повеселевший цыплёнок; распута Варсонофий, вздёрнув хвост палкой, золотистым ручейком вытек в заборную дырку – настропалился, в радости покатил коляски к соседской чернушке на вечерние посиделки, которые сплошь да рядом затягиваются до розового утра.
В распахнутое окно хорошо виден весь двор, кусок нашей улицы.
Мне в удивление…
Вроде я сейчас в Воронеже, в большом областном городе, а улонька – никакой отлички от деревенской. В асфальт не убрана, затравянела, машины так размолотили её, что две глубокие колеи посреди стали главной её достопримечательностью. В дождь в тех ухабинах величаво плавают важные тумбоватые гуси. В сушь в них укрываются от жары куры, не забывая иногда нестись там же.