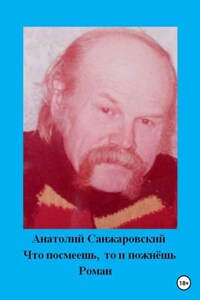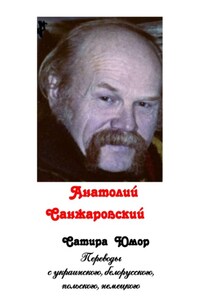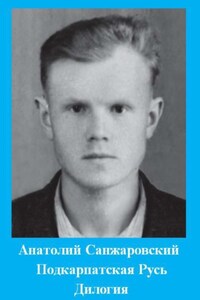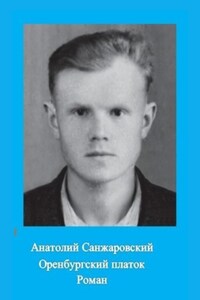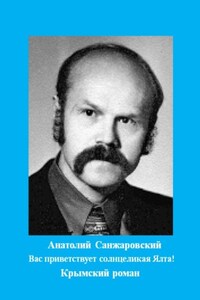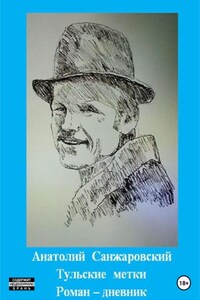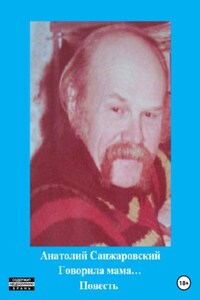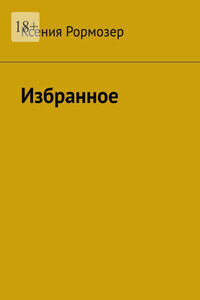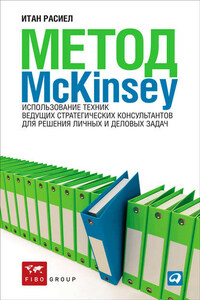Возвращаемся мы с Шукшина[2] – в двери белеет записка.
И Валя, и я потянулись к ней разом, ещё с верхней ступеньки, как только завиделся бумажный уголок в чёрном дерматине двери. Валя оказалась проворней, выдернула записку.
– Ну-ка, ну-ка, – принялась она не спеша разворачивать с весёлым хрустом сложенный вчетверо листок, погллядывая сбоку на меня, выжидательно следя, какое впечатление производит на меня то, что вот она, жена, наконец-то добралась до моих тайн. – Сейчас мы узнаем, что за гражданочки добиваются свиданий с тобой. Признавайся, неверный, дрожишь?
Ладясь не пережать, я в меру вздрогнул, конечно, со страхом на лице, мелко и виновато затряс головой.
Глаза у неё засмеялись.
– Ладно, на первый раз… – Она подала уже вдвое сложенный листок. – Пускай твои секреты, эти твои печки-лавочки, остаются при тебе.
– Не возражаю. Так поступают все образцовые жёны.
Я прочитал записку.
Эта тарабарская грамотка была от почтальонки.
– Надо, – киваю на дверь напротив, – взять в шестнадцатой заказное письмо.
– Да ты знаешь, сколько сейчас!? Выходили из метро в Измайлове – я нарочно смотрела! – одиннадцать было. На автобус не сели, пешком пошли… Под первым снегом… Пока до своего Зелёного… Да наверняка уже за полночь наросло!
Я отомкнул свою дверь.
Не снимая пальто, не разуваясь, Валя радостно процокала по паркету к меркло освещённому с улицы окну.
Повернулась.
– Не зажигай. Скорее сюда! Ну!
На миг мне почудилось, что она летит. Одной рукой она звала-торопила меня к себе, другой показывала за окно.
– Ты только посмотри, что там! О-о-ой!.. Какой куделится сне-ег… Снегу-у-урка…
Я подошёл.
Она молча положила мне голову на плечо, не сводя полных восторга глаз с картины за окном, где всё было снег.
Стояла тихая, безветренная ночь.
Густой лохматый снег толсто мазал, одевал во всё белое размыто освещённый двор и всё во дворе: стоявшие к нам боком легковушки, детскую площадку с грибками и качелями, утыканные скворечниками дубы, березки, клёны. Дотянувшиеся под окном уже до четвёртого нашего этажа груши, плотно обсыпанные снегом, будто кто накинул на них величавые узоры, казались хрустальными.
– Заметь, – тихо заговорила Валя. – Ни в башне справа, ни в башне напротив, ни в хрущобке[3] слева, ни в башне за ней – нигде ни огонёшка! Представляешь, кроме уличных фонарей никто не видит эту красоту. Сони-засони… Да я б за сон в такую ночь ну… штрафовала!.. Утром продерут глаза и ну ахать. Первый снег! Первый снег! А как он шёл, не видели. Всё проспали.
В знак согласия я легонько пожал её локоть – лежал у меня в руке.
– А у нас даже бобинька видел, – почему-то печальным голосом добавила Валя, осторожно пуская доверчивые точёные пальцы в белую жестковатую шерсть на спине у косматого магазинного пуделя, – стоял под рукой на подоконнике лицом на волю. Уши, ноги и хвост у пуделя были коричневые.
Этого пуделя Вале подарили.
В ту пору она ещё ходила в сад, и у неё помимо обычного имени Валя было ещё одно имя, весёлое, звонкое, – девочка Всеха.
Так Валю звали иногда домашние, потому что на каверзный, не без интрижки вопрос взрослых:
– Чья ты, девочка? Мамина или папина?
Валя отвечала каждый раз одинаково:
– Всеха.
Родители втайне дивились, козыряли мудрой, дипломатичной проницательностью хитрули, и, очарованные, захлёстнутые ею до сердца, горячо любили её.
Однажды в получку папа принёс этого космача пуделя с голубым бантом на шее.
Папа поставил пуделя на тумбочку, стал рядом, и девочка увидела, что у пуделя на шёлковой блёсткой ленточке была миниатюрная цветная соломенная корзиночка.