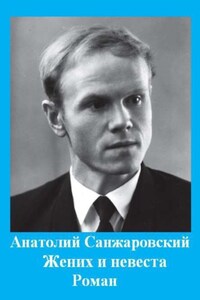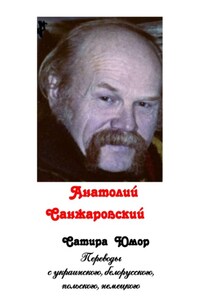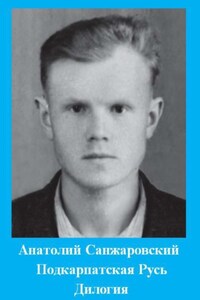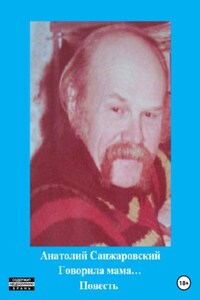Ты бай на свой пай,
а я говорю на свою сторону.
А я и себе не скажу, а с чего это я хожу сама не своя, а чего это пристегнулась, привязалась ко мне, как беда, одна печаль-заботушка, заслонила бел день на сердце…
Думала я, думала да то-олько хлоп кулачиной по столу.
«Будя решетом в воде звёзды ловить! Будя петь лазаря! Скоко можно нюнькаться?»
Надела я, что там было поновей в гардеробине, надела да и наладилась, ёлки-коляски, к своему к Валере-холере.
Иду осенним садом меж пустых, без одёжки уже, дерев, иду, а у самой сердце жмурится то ль с тоски с какой, то ль с радости с какой неясной, а только сосёт-посасывает что-то такое вот…
Подхожу под самый под нос, а Валера мой не видит, не слышит шагу моего.
Как строгал ножичком себе на лавке у яблоньки какую-то рогульку, да так и строгает, будто и нетоньки меня.
Возле топчется Ленушка, гостьюшка наша. От деда внучку и за хвост ввек не оттащить. Такая промежду ними симпатия живёт.
Ленушка с большой осторожностью тыркает деду пальчиком в щёку.
– Дедуля! А ты колючка!
– Зарос… Ёж ежом, – как бубен бубнит дед. Уж такой у него выговор. Я привыкла, что у него самые разласковые слова падают горошинами на пол.
– Если ты ёжик, так почему тогда у тебя на колючках нету яблочков?
– Я, Ленушка, яловый ёжик.
– А что такое яловый?
– Эк, какая ты беспонятливая, – в досаде Валера перестаёт строгать. – Ну, как те пояснить? – Думает. Вскидывает бровь. – Вот что, милушка… О чужом деле что зубы обивать, когда о своём можно поговорить. Те сколько лет?
– Четыре года один месяц и пять днёв!
Глаза у Валеры засмеялись.
– Ну, насчёт днёв ты это брось. Говори по правилу. Дней!.. А сколько ещё часов? – с ехидцей копает дед до точности.
– Я не… знаю…
– Ты и не знаешь! Ленушка и не знает! Ну да как же это так? Ну вспомни – а дай-подай те Бог памяти! – ну вспомни вот час, когда принесли тебя из магазина.
– Сейчас детей не покупают!
– Хо! И в лотерею, голуба, выигрывают! Ежель на то пошло-поехало.
– Вотушки ещё…
– А что, они с неба, как манка, сыплются?
– И вовсе не сыплются!
– Ё-ё-ё! А откуда ж, разумщица, их тогда берут?
– Из-рожа-ют! Как сойдутся два семечка… Мамино и папино… Меня изродила сначала половинку мама. А потом половинку ещё папа!
Тут дед не в шутку дрогнул, будто его с низов шилом кто хорошенечко так поддел, и с сердцем ткнул Ленушку в плечо.
– Бесстыжка! Как есть бесстыжка! Да ты… Да ты!.. Вона каковские штуки родному деду выворачиваешь?!
– А что, неправда? Неправдушка? Ну скажи! – Девчоночка завела руки за спину, взяла одной рукой другую за запястье – мне помилуй как ясно всё видать. – Ну скажи!
– Будет рот ширить-то… Тоже мне сыскалась, знаете-понимаете, вундеркиндиха… И не жалаю, и не позывает с непутным дитём слова терять.
Дед сердито сызнова налёг строгать. Всей грудью навис над ножом.
Да только ненамного его хватило. Снова пробубнил:
– Такущее отстёгивать… К каким словам прикопалась… Эт додуматься надобно до такой вот до худой глупости!
– Сам ты это слово, – совсем на́тихо возразила Ленушка. Девчонишка наверное знала, что Валера с глухотинкой уже. Не услышит.
Он и в самом деле не слыхал ответа.
А потому продолжал нудить своё в старой линии:
– От твоего, дорогуша, бесстыдствия я слышу, как вот тут, – Валера скинул картуз, повёл мякушкой ладони по зеркально-голому темени, – как вот тут, где сто уже лет волосья вьются, что твой карандаш, я слышу, как от твоего басурманства кудри на дыбки встают и кепчонку подымают. Эт что?
Девочка промолчала.
В крайней серьёзности она рассматривала мыски своих красных ботиков с белыми якорьками по бокам.
Старику и самому прискучила его молитва. Понял, что переборщил. Помолчал, мотнул головой. Прыснул:
– У тя, девонька, в зубах не застрянет. Не язычок… Бритва!