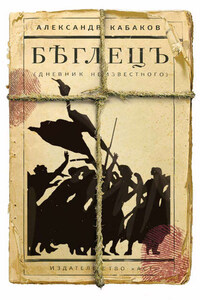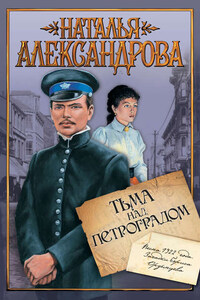Петр Великий, закладывая на пологом берегу среди гиблых ижорских болот удивительный город, получивший имя его небесного покровителя, меньше всего заботился о том, в каком климате придется жить его подданным, населившим новую столицу. У первого российского императора были заботы поважнее, а сам он был, как известно, на редкость неприхотлив и на такие мелочи, как зябкая ненастная сырость, постоянные дожди и туманы да промозглый ветер с Невы и Финского залива, никакого внимания не обращал. Так что ясные солнечные дни в Петербурге, который полтора года тому назад переименовали после начала войны в Петроград, – большая редкость даже весной и летом. Понятно, что и к окрестностям города – Гатчине, Павловску, Колпино, Царскому Селу, Петергофу это относится в полной мере.
Однако нет правил без исключений. Второй год подряд конец апреля баловал обитателей столицы Российской империи исключительно хорошей и необыкновенно теплой погодой.
Вот и сегодня, после прошедшего ночью обильного, но скоротечного дождя, дворцовый комплекс Петродворца – до войны этот пригород столицы называли Петергофом – заливали лучи яркого весеннего солнца. Они весело отражались в стеклах громадных окон Большого дворца, на позолоченных куполах церкви Николы Морского, пробивали световыми стрелами нежную молодую листву, расцвечивали недавно проклюнувшуюся шелковистую травку сочным малахитовым глянцем. Они придавали особый праздничный блеск широкой лестнице Главного Каскада, всей этой просторной и величественной архитектуре. Ах, если бы еще работали необыкновенные фонтаны Петергофа, равных которым по причудливости и редкостному изяществу не было нигде в мире! Но по решению государя императора на время войны фонтаны отключили. Вот победим тевтонов, австрияков вкупе с прочими супостатами – тогда-то можно будет полюбоваться на Самсона со львом и прочие удивительные водометные фантазии.
Постепенно воздух прогревался: разгорался безветренный погожий день. Вода Финского залива была гладкой, точно полированное дерево, в ней отражалось бирюзовое небо с ослепительно-белыми облаками. Такими же белыми были крылья низко парящих чаек.
Уже за границей дворцового парка, на берегу залива, верстах в трех от Никольской церкви, поднималась в небо на двадцать сажен красная каланча, сооруженная в самом начале царствования Николая Павловича. Старая постройка опустела еще в конце прошлого века, брандвахта Петергофа в ней больше не нуждалась, а снести или разобрать на кирпичи все как-то руки не доходили. Каланча потихоньку ветшала под напором морских ветров и зимних морозов, стены ее покрывались щербинами и трещинами.
Внизу, у подножия пожарной башенки, расположилась группа из четырех молодых мужчин. Характерная военная выправка и форменная одежда свидетельствовали о том, что это русские офицеры: двое в мундирах штаб-ротмистров Лейб-гвардии уланского полка 2-й гвардейской кавалерийской дивизии, еще один – с погонами уланского корнета, а четвертый, самый старший по возрасту, лет тридцати, был, однако, самым младшим по воинскому званию – прапорщиком 5-го гусарского гвардейского Александрийского полка.
Гусарский прапорщик как-то выделялся в этой маленькой компании, где, как можно было определить с первого взгляда, все отлично знали друг друга. Внешне он выглядел, пожалуй, несколько нескладно, несмотря на прекрасную осанку: угловатая фигура с непропорционально длинными руками, далекое от привычных представлений о красоте сужающееся к подбородку лицо – толстые губы, слишком вытянутый, как бы сжатый с боков череп, чуть косящие глаза. Но от всего его облика, от его манер и жестов, от того, как он двигался и говорил, ощутимо веяло спокойной силой и чуть надменной гордостью, так что сразу становилось ясно: этот человек не обременен комплексами, он хорошо знает себе цену и полагает, что цена эта достаточно высока.