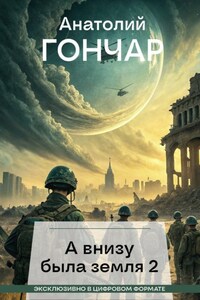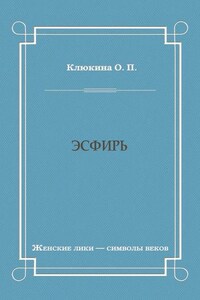Вертолет падал. Его крутило и бросало в воздухе, как раскрученную на нитке марионетку. Ледяной страх, в первую секунду все же ударивший под дых кулаком тупого ужаса, отступил под моей уверенностью в том, что все будет хорошо. Все идет как и должно идти – МИ-8 свалился в штопор на пятьдесят восьмой минуте – строго по графику. Но все равно страшно. Я посильнее ухватился за скамью, скользнул взглядом по лицам бойцов. Знаем же, что к чему, а нет, все равно боязно: лица – каменные маски с застывшей мимикой – такой вот неподвижный серый мрамор. У Нигматуллина губы нервно подергиваются и глаза блестят набегающими слезами. Подбодрить бы ребят, да боюсь, петуха дам. Лучше уж так. Молча пытаюсь улыбнуться. Ближе всех сидящий ко мне Синюшников морщится – наверное, улыбка получилась еще та. Сколько осталось? Две секунды? Три? Чуть больше? Мы так долго валимся вниз! Скорее бы! Сколько нервы-то мотать можно? Ничего, скоро будем дома! Будем. Уши закладывает от перепада давления. Болью отзываются перепонки. Три тысячи метров падать – это долго. Надеюсь, такой жесткой посадки, как прошлый раз, не будет. Тогда нас прилично тряхануло. Ну да ладно, пара синяков не повредит. Скорей бы! Что-то слишком медленно текут крайние мгновенья, оставшиеся перед возвращением домой. Дом – милый дом! В круге иллюминатора померк свет – вертолет завалился на бок, теперь перед глазами только желто-серая поверхность приближающегося бархана. Бархана! Значит, точно почти дома. Сейчас я должен на секунду потерять сознание. Вот сейчас, сейчас. «…я б хотел… Нет! Нет! Твою мать…»
Страшный удар потряс бархан до основания, и наступила сыпучая тишина.
Перед взором смазанной линией мелькнуло девичье лицо, запечатленное на любительском фото, и тут же последовал удар. Я ощутил, как мышцы сползли с костей, сдернулись вниз, устремившись к внезапно вставшей на дыбы земле, а кости начали медленно-медленно крошиться, наползая суставами друг на друга. Я почувствовал, как костяные осколки протыкают и рвут кожу. Жуткая боль затмила разум, сжав горло так, что мой крик остался где-то внутри меня. Все померкло, исчезло, все ощущения растворились в черном ничто безвременья, затем послышался скрежещущий звук, и следом я вновь ощутил боль во всем теле. Особенно ныли мышцы голеней, ныли так, как порой бывает при жестком приземлении с парашютом, только гораздо сильнее. Нет, не до крика – эту боль, ноющую, ревматическую, можно было терпеть. Удивительно, но когда в глазах перестали сверкать белые мушки, оказалось, взгляд направлен в иллюминатор, за которым по серо-желтому песчаному бархану навстречу друг другу ветер все еще нес две маленькие, абсолютно одинаковые фотографии улыбающейся девушки. Изображения встретились и в одно мгновение исчезли в оранжевой вспышке. В глазах вновь померкло.
– И-и-ис-с-с-с-с-с-с-с, какого лешего? – Я услышал шипение стучавшего зубами Болотникова и, с трудом повернув шею, открыл, как оказалось, до того закрытые глаза. Боль металась по всему телу, но уже не казалась столь жгучей. В салоне вертолета творилось черт знает что, большинство моих парней находились на полу. Кто лежал, кто сидел в скрюченных позах. У некоторых по лицу текла кровь. Странно, что я удержался на скамейке. Автомата в руках не было, он обнаружился под спиной распростертого под ногами и негромко стонущего Козлова.
– Живые? – борттехник опять оказался рядом.
– Предположительно, – я постарался выдавить из себя улыбку – осознание того, что у нас все получилось, не могло не радовать. – У всех кости целы?
Вопрос заставил моих бойцов закряхтеть и зашевелиться пооживленнее.
– Нормально так, – Женька Козлов, морщась, приподнялся на локте и вытащил из-под себя мой «Калашников». – Как спину не сломал – не понятно…