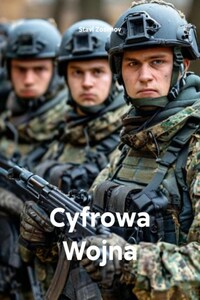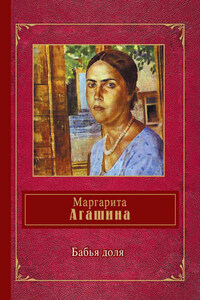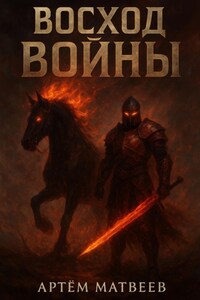Золотой октябрь в предгорьях Адыгеи – время тихого увядания и подведения итогов. Склоны горы Физиабго, еще недавно тонувшие в сочной зелени, теперь пылали оранжевым пожаром кизила, багрянцем дикой виноградной лозы и нежным золотом буков. Воздух, прозрачный и холодящий по утрам, к полудню наполнялся терпким ароматом прелой листвы, древесной коры и далекого дымка – где-то жгли сухую траву на покосных лугах. Именно в это время Даурген начинал свою самую важную, неторопливую работу – он укладывал пчёл на зимовку.
Ещё вчера по радио, сквозь шипение и треск, передавали скорое похолодание, ночные заморозки. Для неподготовленных ульев это могло стать гибелью. Работать нужно было быстро, но Даурген никогда не торопился. Он знал: спешка – враг и пчелы, и человека.
Его пасека из сорока ульев стояла на яру, с которого открывался вид на бескрайний океан лесов, упирающихся в зубчатый гребень Кавказского хребта. Даургену было под семьдесят, и годы согнули его некогда мощную спину, но руки, испещренные сетью шрамов от жал, по-прежнему были тверды и уверенны в движениях. Он часто разговаривал с пчёлами не вслух, а мысленно, понимая их гул как речь старого друга. Его отец, научивший его этому ремеслу, говорил, что пчела не терпит суеты. Она живет в ритме солнца и цветка. И Даурген, тогда еще мальчишка, запомнил не слова, а тепло отцовской руки на своем плече у дымаря и тихий, уверенный гул семьи, которому вторил низкий, спокойный голос отца: «Слушай, сынок. Это – жизнь». Теперь он был, пожалуй, последним, кто слышал эту жизнь так, как слышали ее его предки. Сын уехал в город, где пахнет бензином и бетоном, а не воском и мёдом, а дочь звонила раз в месяц, с тревогой в голосе спрашивая, не пора ли бросить это тяжёлое хозяйство.
В тот день он замер у одного улья – не нового, крашенного, а старого, почерневшего от времени дупляка, сколоченного еще его отцом. Он положил ладонь на шершавое дерево, чувствуя под кожей вековую память породы и слыша внутри себя эхо отцовского смеха. Этот улей был для Даургена мостом через пропасть времени. Пчёлы из этого улья вели себя странно. Вместо того, чтобы лениво кружить у летка, готовясь к зимнему сну, они вылетали дружно и целенаправленно, с тем особым гулом, который бывает только при обильном медосборе.
«Куда вы, глупые? – прошептал Даурген, щурясь на низкое осеннее солнце. – Всё уже отцвело. Последняя липа сбросила цвет, иван-чай обронил свой пух. Одумайтесь».
Он с тревогой посмотрел на небо, подёрнутое молочной дымкой – верный признак грядущего холода. Всё надо было утеплить до ночи. Но как оставить этих упрямиц?
Пчёлы не слушались. Тонкая золотая струйка тянулась от летка в сторону глухого ущелья, заросшего буком и грабом. И Даурген, отложив в сторону дымарь, решил последовать за ними. Взяв свой посох из кизилового дерева, он зашагал по едва заметной звериной тропе. Внутри боролись два чувства: практичная тревога хозяина, обязанного спасти свое хозяйство от заморозков, и глубокая, инстинктивная вера пчеловода в мудрость пчёл.
Лес встретил его торжественной, почти церковной тишиной, нарушаемой лишь хрустом подошв по мёрзлой корочке утреннего инея и далёким перекликом птиц. Солнечные лучи пробивались сквозь оголённые кроны, ложась на землю длинными холодными пятнами. Воздух был густым, пах грибами, влажной глиной и горьковатой медью увядающего папоротника. Гигантские буки возвышались, как молчаливые стражи, их гладкая серая кора местами была покрыта изумрудным мхом. Где-то внизу, в каменной теснине, с глухим рокотом несла свои уже не такие бурные воды река Белая. Даурген шёл, и ему казалось, что он шагает сквозь самое сердце осени, сквозь ее прохладную, печальную и прекрасную душу.