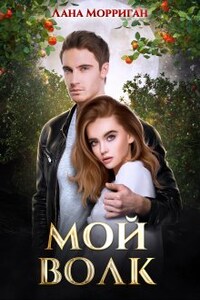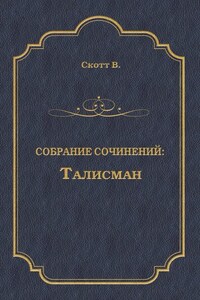То, чему сопротивляешься сильнее
всего, имеет все шансы остаться в твоей жизни навсегда.
***
- Мисс Мирослава, - меня невольно
передернуло от голоса блондинки, в котором было столько льда, что
хоть ледяную скульптуру ваяй.
Она сидела за огромным столом, а я
стояла перед ней как провинившаяся первоклашка, глядя в пол и
впиваясь ногтями в тонкую кожу запястья, оставляя глубокие красные
борозды. – Вы осознаете, что совершили?
Я кивнула и еще ниже склонила
голову, уставившись на собственные туфли, являвшиеся частью
школьной одежды. Туфли мне настойчиво не нравились, как и вся форма
целиком, которая с одной стороны обезличивала, а с другой делила
всех учеников Академии на касты, где кто-то был заведомо лучше,
потому что учился на более престижном факультете, а кто-то априори
хуже, потому что не родился с нужными навыками. Но выбора мне, как
и всем остальным, не оставили. Как не оставили выбора с тем, из-за
чего я и стояла в кабинете главы Академии, нервно переминаясь с
ноги на ногу и ожидая решения относительно собственного
наказания.
Заслуженного, надо сказать.
- Я не слышу, - с нарастающей
суровостью проговорила леди Элеонор.
- Да, - вяло откликнулась я, не
поднимая глаз. – Осознаю.
- Почему вы так поступили? –
продолжила экзекуцию директриса, явно не торопясь завершить этот
разговор.
Я, ощущая себя человеком,
готовящимся взойти на эшафот, гулко сглотнула и ответила:
- Мне было любопытно.
- Вам, - начала леди Элеонор, но
запнулась, задохнувшись от возмущения. – Вам было любопытно?
Её тон резко повысился, так, словно
она едва сдерживалась, чтобы не закричать.
И я её понимала, на меня тоже
периодически накатывало желание поорать.
Пожав плечами кивнула, а после все
же мельком глянула на женщину, которая опершись локтями о
внушительную, поддерживаемую четырьмя ножками столешницу, подалась
вперед, словно пытаясь разглядеть что-то на моем лице. При этом
меня удивили не столько действия главы данного учебного заведения,
сколько опоры стола, выглядевшие так, как будто были не элементом
мебели, а частью кого-то большого, чешуйчатого и, возможно,
когда-то живого. Лично мне на ум пришел огромный ящер, хоть я и не
была уверена, водятся ли в этом мире ящеры подобных размеров.
Надо будет потом у Сократа
уточнить.
Который, кстати, не пойми куда
делся, в то время, как я стою перед грозно поблескивающей глазами
главной Бабой Ягой на колхозе…
Едва только войдя в большой светлый
и просторный кабинет в сопровождении рыцарей Ночи, я почти сразу же
сообразила, к кому меня привели. Потому что не сообразить было
трудно, даже для меня, плохо соображающей и, кажется, чуток
контуженной. И хотя до этого момента я никогда не встречалась с
главой Академии, в ряды студентов которой меня практически насильно
запихнули, эта женщина с бесчувственным голосом, властными
повадками и требовательно-внимательным взглядом сразу же давала
понять, кто она такая.
Но даже сквозь эти наслоения
бездушия и угнетения не могли скрыть её внешней красоты. Да, леди
Элеонор была очень красива. Но красива той холодной красотой,
которая больше присуща древним статуям. Выточенные из камня руками
давно истлевших мастеров, они навевают ассоциации с далекими,
погребенными под песками времени, эпохами, когда душевные муки
гениев порождали великие произведения искусства. Вызывая восхищение
и вырывая завистливые вздохи, они, застывшие, остаются тем, от чего
невозможно отвести взгляд, но при этом не являются тем, чем
хотелось бы владеть. На них смотришь редко, издалека, не имея
возможности прикоснуться и зная, что, скорее всего, ваша встреча –
первая и последняя. В твоей жизни. А она в своей видела таких, как
ты, немало – они приходят, смотрят и уходят, и так на протяжении
веков, тысячелетий. Сменяются поколения, люди убивают друг друга на
войнах, земли меняют своих владельцев, а она, каменная и на веки
прекрасная, продолжает стоять, величественно наблюдая за всем со
своего постамента.