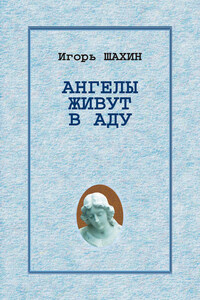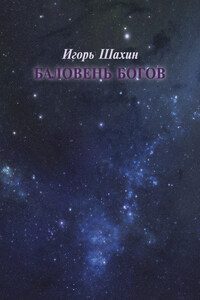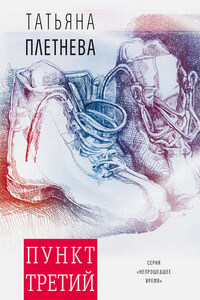Ветла сказал: «Примешь двести пятьдесят – полегчает», – и уехал в Голицыно за спиртным, а я готовлюсь к страшному. Может быть, меня просто-напросто прикончат и – вся недолга?.. Это было бы несправедливо, ведь я еще полон сил и в оставшиеся годы жизни могу отработать все долги, отмыть всю грязь, гнилые ошметки болота, в котором барахтался столько лет. И вот только выкарабкался на твердую почву, прочистил глаза, увидал прерывистый, извилистый след своих барахтаний, уходящий к самому горизонту, самое время начать жить, а меня охватила паника, и я убежал сюда, за тысячу верст от моего города. Может быть, это не паника? Страх?
Нет, и не это… Меня не убьют. Какой-нибудь шанс, какая-то возможность, дверца, выход всегда есть, и надо к этому готовиться. Вот и готовлюсь. Как? Да никак, лежу себе, тасую мысли, слова. Да вот: «Поезд уже тронулся, и мне пришлось в каких-то пять-десять секунд сочинить чарующую поэму из жалостливых жестов, судорожной мимики и нескольких бессвязных фонем, в результате чего проводница со своим грязно-желтым флажком отступила в глубь тамбура, что было нежелательно в установленном распорядке работы бригады поезда, но мои извинения и благодарности затактовыми аккордами в стаккато пощелкали, словно комариков, эти мгновения даже еще не родившихся ее угрызений совести». Почти шестьдесят слов в одном предложении. Пустышка. Чушь. Глупь.
Примерно так я объяснялся или писал сочинения или письма кому ни попадя в пятнадцать-шестнадцать лет. Моя память была лучшей в мире липучкой и, справедливости ради сказать, отличной отдавучкой. Все слова мира так же легко входили в нее, как и выходили при необходимости – вот тут-то и начиналась потеха. Это походило на ошеломляющий сотнепалый и многолапый высокопрофессиональный обыск души. Слушающий меня, мои речи, всего лишь делал что-то бровями и веками, поводил плечами, туловищем, и руки шевелились, словно намек на дирижирование, ноги переступали: кто пятился, а кто и приближался. И вот ему только-только начать действовать, а я уже в общих чертах предполагал, с кем имею дело.
Секрет был прост: всяк по-своему зажимает нос, попадая в авгиевы конюшни пустых слов и фраз, кто-то этого не делает, герои же приступают к их чистке. Многие были героями: спорили, возражали. А мне дать возможность поспорить – как рыбу в воду пустить… И при всем при этом я считался замкнутым юнцом.
Так бывало до самостоятельной жизни. Институт не в счет. Он пополнял мой словарь иностранными языками и педагогической терминологией. На экзаменах эта моя словесная взрывчатость страх как помогала. Один «Я» говорил, убеждал, доказывал, возражал, а другой, затаив дыхание, потрясенно наблюдал за первым и в эти минуты им восторгался, и даже любил.
Самостоятельная жизнь, оказывается, прекрасно могла обходиться без меня и моего словарного запаса, оттого, надо полагать, и звалась самостоятельной. В ней хватало двухсот, ну, трехсот символов для делового общения.
Я научился помалкивать, и спрашивать, и слушать, а это, ко всему прочему, мало красит учителя. Школа, печальная моя школа, даже не успев как следует узнать, отторгла зародыш будущего Песталоцци раз и навсегда.
Нет, я не молчальник – уже в силу того, что экскурсии по городу длятся три-четыре часа, и все это время я «шпрехаю» иностранцам и нашим туристам навечно заученный текст, пусть даже в нескончаемых его вариациях, но он выхолощен десятками сотен повторений, и в нем нет уже души моей, лишь кое-какие эмоции. В нем осталась только формула города – такого же вечного, как Рим.