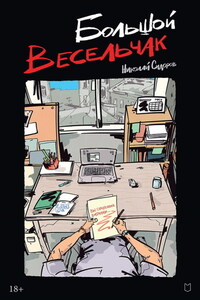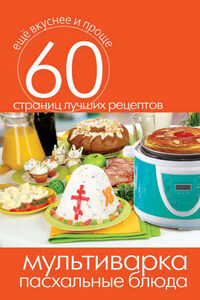Глава 1: Тихий час для «Медведя»
Солнце вставало над Сосновкой лениво, будто и ему не хотелось покидать уютные перины облаков. Первые лучи, робкие и золотистые, пробивались сквозь стынущий ночной туман, цеплялись за заиндевевшие крыши, скользили по поблёкшим ставням и будили петуха на заброшенной ферме. Тот, недовольно покаркав, оповестил окрестности о начале нового дня, такого же размеренного и предсказуемого, как и все предыдущие.
В это время Григорий Иванович, известный в узких, ныне канувших в лету кругах как «Медведь», уже заканчивал свою утреннюю пробежку. Десять километров по проселочной дороге, петляющей меж полей и чахлого березняка. Ритмичный стук его кроссовок по утрамбованной земле был единственным звуком, нарушавшим утреннюю благодать. Дыханье ровное, пульс спокойный, тело, несмотря на сорок пять лет и давно покинувшую службу форму, слушалось беспрекословно. Это был его ежедневный ритуал. Его линия обороны против надвигающейся на гражданского человека расслабленности, против пивного живота и одышки. Его маленькая приватная война с миром, который решил, что он отслужил своё.
Он свернул с дороги на тропинку, ведущую к дому. Не к дому, конечно. К избушке. Домом это строение можно было назвать с огромной натяжкой. Небольшой, рубленный ещё дедом, он стоял на отшибе, на самом краю Сосновки, там, где цивилизация заканчивалась и начинались бескрайние леса, болота и воспоминания. Дымок из трубы говорил о том, что его бабушка, Марфа Семёновна, уже встала и, вероятно, вовсю колдует у печки.
Григорий замедлил шаг, сделав несколько глубоких вдохов. Воздух был холодным, чистым, с едва уловимыми нотами хвои, дыма и влажной земли. Таким воздухом нельзя было надышаться. После пыльного асфальта большого города, после гари выхлопных труб и выбросов заводов этот воздух казался лекарством. Он вошёл в калитку, щёлкнул щеколдой – чинить её он собирался уже полгода – и потянулся к крыльцу.
– Гриша! Не смей заходить в чистую горницу в этих вонючих тряпках! – раздался из распахнутой двери чёткий, как выстрел, голос. – Раздевайся до порога! Полы я сегодня мыла!
Григорий автоматически замер, как новобранец перед сержантом. Уголком глаза он увидел её – невысокую, сухонькую фигурку в цветастом халате, с седыми волосами, убранными в тугой пучок. Марфа Семёновна стояла на пороге, опираясь на швабру, как на парадный посох. Взгляд из-под очков в железной оправе был настолько пронзительным, что, кажется, мог бы пробить бронежилет.
– Я слышу, бабуль, – покорно ответил Григорий, снимая кроссовки и оставляя их на крыльце. – Доброе утро.
– Утро оно всегда доброе, ежели человек жив-здоров и совесть его чиста, – отчеканила Марфа Семёновна, пропуская внука в сени. – А ты чего-то сегодня осунулся. Не выспался? Опять по своим глупостям ночами маялся?
Григорий промолчал, протирая пот со лба старым полотенцем, висевшим на гвозде. Она всегда всё знала. Всегда чувствовала. Её материнский, перешедший в бабушкин, радар был настроен на малейшие колебания в его состоянии. Она не знала подробностей его службы – он тщательно её от этого оберегал, – но всегда чувствовала, когда ему снились кошмары, когда старые раны начинали ныть не от погоды, а от памяти.
– Да так, мелочи, – буркнул он, заходя в горницу. – Пахнет волшебно.
Запах действительно был божественным. Свежеиспечённые блины, топлёное молоко, деревенская сметана густой-прегустой консистенции. На столе уже стоял самовар, потихоньку шипя и наполняя комнату уютным теплом.
– Не отвлекай, льстец, – фыркнула бабушка, но было видно, что комплимент ей приятен. – Садись, завтракай. А то опять на одном кофе продержишься до вечера, а потом желудок у тебя скрутит, и я тебя отпаивать буду ромашкой.