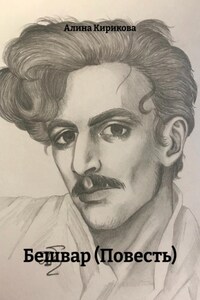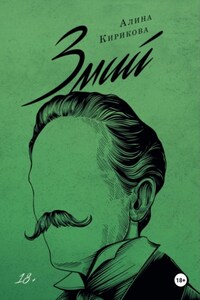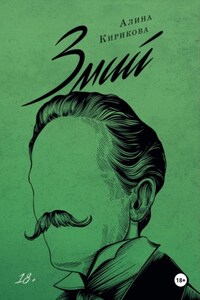Бешвар
Пребывая в забытьи в тот день, когда началась первая глава моей жизни, я, двадцатипятилетний молодой человек, шел у пруда, смотрел под ноги и о чем-то бесконечно думал. Одна мысль сменялась другою с грязным непостоянством. Все мешалось в серый ком, оставшийся после жизни в Европе. Ком этот выглядел точно так, как снежная баба, слепленная по первому снегу в ноябре: тело ее и голова были запятнаны землей, гнилыми листьями, желтой травою и истлевшими прутьями. «Что же теперь делать, куда податься? Связи прервал, не служу, кругом решительно ничего и никого, последние деньги спустил заграницей. Гол как сокол!» – размышлял я. – «Надо бы взяться за дело какое-нибудь, что ли, иначе растрачу последние гроши. Только за какое дело? Мир и без меня переполнен всевозможными идеями, которые меж тем друг друга повторяют, а новое скажешь – удушат. Жениться тоже пристало, да на ком, ежели я никого не любил и не люблю?».
– Это же Сергей Романов! Серж, идите сюда! – закричали голоса, заставив меня обернуться.
К берегу причалила лодка, в ней сидели давние знакомые: Никита Малютин, Семеоновский, Тамара Несвицкая и Фирсова. С ними я дружил первые годы пребывания в Петербурге, когда еще состоял при училище. Ну как дружил, скорее, только думал, что дружу. То ли сельское воспитание повлияло, то ли бабушкина любовь, то ли свойства души, но вырос я в плане дружбы глубоко наивным человеком, поэтому всякий новый знакомый жадно становился мне другом. Отсюда и следствие – впервые оказавшись в светском салоне, до которого все пытался дорваться, всецело отдался столичным лицам. Как слепой дикарь, я не знал, что такое хорошо, что плохо, дозволял петербургскому кругу вести себя со мною, как будет угодно – это и было мне куском черствой дружбы. Стоит сделать оговорку, одного человека я знал давно и сразу – Тамару. К столичному кругу она от рождения имела положительные свойства. Ее взяли в свои тотчас, чуть она показала превосходные способности к лицемерию, которым так дорожат в свете. Итак, несмотря на плохое расставание, на лице моем прорезалась ностальгическая улыбка по минувшему, как будто в нем было что-то пригожее; я смело залез в лодку.
– Романов, каковы вы теперь, а! Заметно поправились! Женились, что ли? – утягивая меня, веселилась Фирсова. – Или вы то же, что Семеоновский, – отъедаетесь на покое да по армии тоскуете?
– Да, к слову, теперь на отдыхе, – заводя руки за голову, растянулся Семеоновский, передавая мне весла. – Вы, Сергей Георгиевич, видно не собираетесь восстанавливаться, раз усы еще не отрастили?
– Во Франции не модно усы носить, пытался соответствовать, – отвечал я, отвлекаясь на задумчиво улыбающегося Малютина. – А вы как, Никита? Не молчите.
– А я, Серж, безвылазно в городе живу, чиновничаю в состоянии предобморочном. Помогаю отцу писать законы. Приехал к матери на недельку, – отвечал Малютин. – Однако, как удачно совпал наш с вами приезд! Надо будет вспомнить прошедшее, пропустить партишку. Мне не с кем досуг проводить, а вы, помнится, хорошо в карты играли…
Я почему-то промолчал, не нашел, что сказать. Тамара упорно строила из себя равнодушную, глядела то в одну сторону, то в другую, теребила веер, но, заметив мою улыбку и то, что я обличил для себя ее чувства, прорвалась:
– Еще не устроила вас бабуся? – фыркнула она.
Тут Семеоновскому да Малютину чего-то стало смешно, и я начал жалеть о том, что сел в злополучную лодку и взялся грести. Грустные воспоминания и прошлые обиды всколыхнулись в моем сердце, как подымается ил, если на дно сквозь спокойную и чистую воду опускается камень.
– Я только что вернулся. Мы давно не виделись, – выдал я.
– Бедная ваша бабуся! – пальнула Несвицкая. – А я-то думаю, чего она со мною и маменькою неприветлива, оказывается, внук у нее бестолочь: нервы трепет, везде катается и ничего не делает!