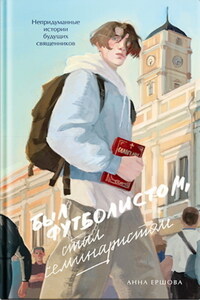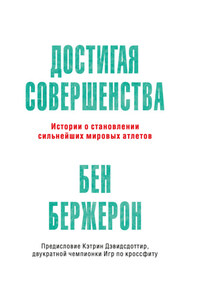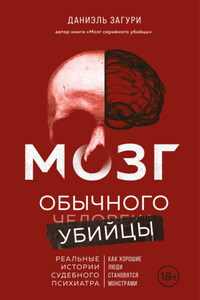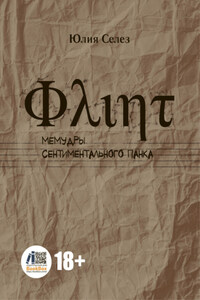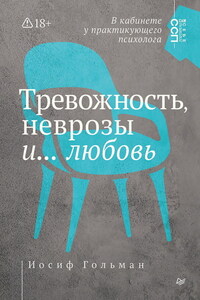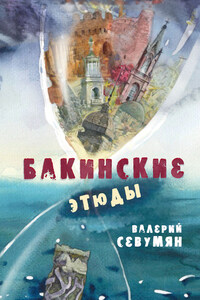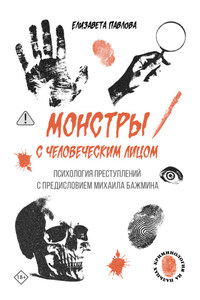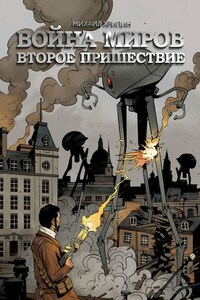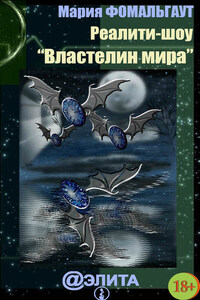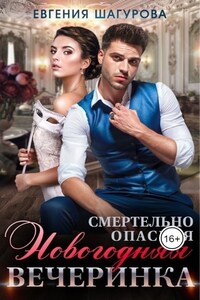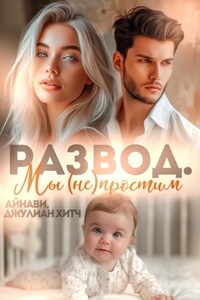Священникам нового поколения от священника прежнего поколения
Книга, которую выдержите в руках, – одна из немногих, изданных на эту тему на русском языке. А самую первую книгу о семинаристах вы, скорее всего, никогда не увидите, потому что она вышла 30 лет назад в Италии.
…Когда я учился в духовной семинарии, которая тогда называлась Ленинградской, я познакомился с католическими священниками. Начало 1990-х. В России неразбериха и гласность, в семинарии тоже перестройка и ветры либерализма: нам разрешено врезать замки в двери комнат, еженедельно ректор встречается со студентами за чаем в неформальной обстановке… Иностранцы, такие диковинные в прежнее время, теперь в России в изобилии. Православные семинаристы ходят в гости в католическую семинарию, а католиков приглашают к себе.
Мои друзья – священники из Италии. Мы пьем чай в нашем семинарском общежитии и беседуем. Кто-то из нас рассказывает о своем опыте прихода к вере. Один рассказал, второй… Я отчетливо помню, как эти итальянцы, вытаращив глаза, смотрели на нас, а потом воскликнули: mamma mia!
Мы не поняли этой реакции.
Они пояснили: «Мы такое в первый раз слышим. В Италии ребенок рождается, и с детства практически определено, кем он станет. Почему становится священником? Чаще всего потому, что рождается в благочестивой семье, его воспитывают в вере, он с детства ходит в воскресную школу, мечтает быть как батюшка… А у вас какой-то совершенно другой опыт…»
«Мы, – продолжают итальянцы, – по-другому даже к Богу относимся. Для нас Бог – в каком-то смысле элемент культурной традиции народа, нашей идентичности. В Италии редко кто-то говорит про встречу с Господом. Это из области книжек про святых, а не из личного опыта».
Католики тогда упросили нас написать о нашем непростом пути к вере. Среди нас был юноша, уверовавший в Бога в афганском окопе, окруженный душманами. И бывший хиппи, объездивший автостопом полстраны (сейчас он заслуженный протоиерей, но дырочка в ухе от тогдашней серьги до сих пор не заросла), и мальчики-интеллигенты, которые бежали в прямом смысле в веру, как в эмиграцию, от удушливой коммунистической пропаганды. Были разные. Наш курс (поступления 1991 года), как и два-три года до и после, – невероятный микс абсолютно разных людей и типов. Что нас, позднесоветских мальчишек, встряхнуло, потрясло, как в шейкере, и вывалило в пропахшую щами и ладаном прохладную рекреацию Ленинградской духовной семинарии?.. Мы были разными, но не были равнодушными, серыми, скучными. Мы были совсем ненормальными в благочестиворелигиозном смысле, но мы горели желанием что-то сделать для Церкви и мира.
…Тогда мы написали про свой опыт прихода к вере. Итальянцы взяли эти странички, уехали в Италию и выпустили книжку. Так в середине 1990-х годов вышла книжка об опыте прихода к вере русских семинаристов – будущих служителей Церкви. Ее несколько раз переиздавали, потому что она тогда была для многих людей шоком.
Я вспоминал эту историю, читая записки сегодняшних студентов Санкт-Петербургской духовной академии. И вот о чем думал.
Мы пришли в перестроечное время в Церковь с больными, изломанными судьбами из безбожных семей. Часто уход в семинарию становился трагичным уходом от дорогих нам людей, у которых были свои, непростые отношения с Богом. Помню, как горячо любимая моя бабушка – коммунистка с 1938 года – кричала мне: «Поступишь в семинарию – отрекусь от тебя». (Меня тогда очень поддержал мой духовник, который, усмехнувшись, сказал: «Не переживай. Когда я в 1970-е поступал, от меня не только бабушка, но и мать с отцом отреклись».)