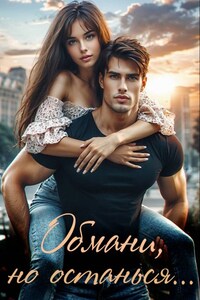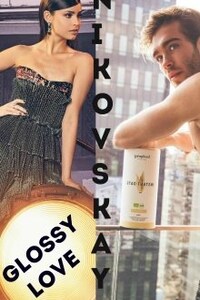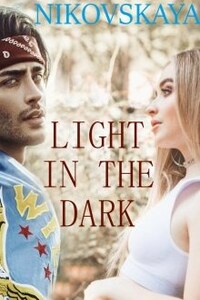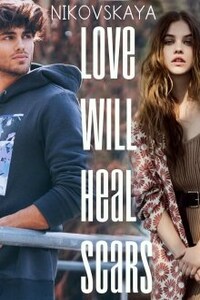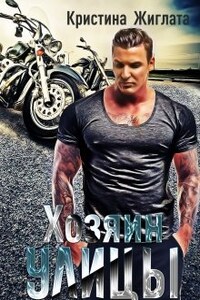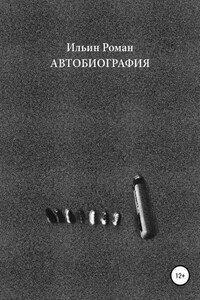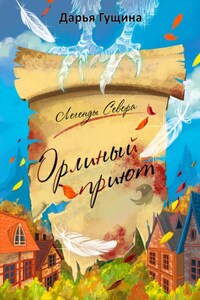Часть первая
Май, 2008
– И куда это ты так начепурилась? –
Анна Гавриловна встала в дверном проёме, скрестив руки на
необъятной груди.
Я от неожиданности вздрогнула. В
тесной прихожей сразу стало сумрачно – своим могучим туловищем она
целиком заслонила проём так, что свет из кухни едва сюда
пробивался.
Я в потёмках нашарила ногой
босоножки. Включать днём электрический свет Анна Гавриловна не
разрешала, экономила.
– К одногруппнице на свадьбу, – не
глядя на хозяйку, ответила я.
– Свадьба – это хорошо, свадьба – это
правильно, – одобрила она. – Хоть и рано. Но всё равно хорошо, а то
девки нынче совсем бесстыжие пошли. Скачут по койкам без всякого
замужа. А жених-то кто? Из ваших писунов, поди?
– Не-ет, – наклонившись, я пыталась
на ощупь застегнуть тонкие ремешки на босоножках.
– Взрослый мужик, что ль?
– Он из ИВАТУ*, – кряхтя, выдохнула
я, еле сладив с застёжками.
– А-а, лётчик, значит, будущий. Ну,
лётчик – это хорошо. Серьёзная профессия, не то что вы – писаки…
Молодец девка, твоя подружка, хорошего парня отхватила. Кто попало
в лётчики не идёт.
Я пропустила её ремарку мимо
ушей.
За эти два года, что снимаю у Анны
Гавриловны комнату, уже усвоила для себя: лучшая тактика с ней –
это молчание. Попробуй ей возрази – и такого наслушаешься. Так что
пусть будут «писуны» и «писаки». К тому же, это она ещё мягко
выразилась. Обычно журналистов и заодно нас, студентов журфака, она
склоняет по всем статьям словаря ненормативной лексики.
– А гулять-то где будете?
Я выпрямилась, одёрнула подол платья,
перекинула косу за спину.
– В столовой.
Если точно – в столовой «восьмёрки»,
то есть университетского общежития № 8. Но про эту деталь я
умолчала. Потому что любое студенческое общежитие, по мысли Анны
Гавриловны, – это сплошь пьянство, разврат и антисанитария. В
общем, хорошие девочки туда не ходят. Одно время она работала
вахтёром в общежитии пединститута и, говорит, насмотрелась всякого,
так что теперь плюётся и содрогается от отвращения, чуть
только речь зайдёт.
– Ну, правильно, откуда у студентов
деньги на ресторан? И на столовую-то, поди, с родителей стрясли, –
хмыкнула она и наконец вернулась на кухню и уже оттуда
крикнула:
– Смотри мне, Машка, в одиннадцать
закрою дверь на нижний замок. Придёшь позже – не пущу. Будешь
куковать до утра. Поняла? Вот так. А потому что нечего по ночам
шляться.
– Нет, Анн Гаврилна, я сегодня не
приду. Я у подруги останусь, она там недалеко живёт.
Конечно, нет никакой подруги. Сегодня
я останусь ночевать у моего Миши.
Миша тоже живёт в «восьмёрке». Ну а
подруга – это версия для Анны Гавриловны. Почему я вообще перед
ней, чужой и сварливой бабкой, отчитываюсь? Потому как она, чуть
что, сразу звонит моей маме, а у той сердце…
Я выскочила в подъезд, сбежала, гулко
цокая каблучками, по ступеням и вырвалась в залитый солнцем двор.
На миг остановилась, зажмурилась, вдохнула полной грудью, пьянея от
запаха цветущей черёмухи. Как же я люблю весну! Особенно май. Как
люблю, когда небо вот такое высокое и синее-синее!
Радость во мне то звенела томно
мандолиной, то энергично отжигала ритмы самбы на пандейру. И
откуда-то я точно знала – всё будет хорошо, всё будет просто
замечательно.
Я припустила к троллейбусной
остановке, но проходя мимо огромных окон-витрин универмага, чуть
замедлила шаг. Словно невзначай оглядела себя и улыбнулась
собственному отражению. Стройная, летящая фигурка в белом платье,
немного коротковатом, но здесь, в городе, и покороче носят.
Это платье, белое, на узких
бретельках, с бисерным узором на лифе мама сшила мне сама на
школьный выпускной. С деньгами у нас всегда было туго, еле тогда
наскребли на новые босоножки, самые простенькие, китайские.