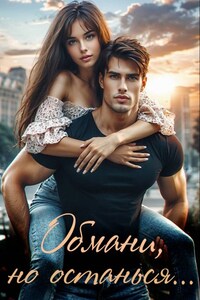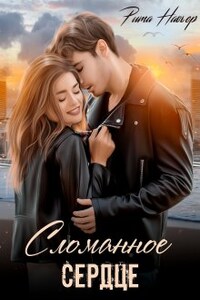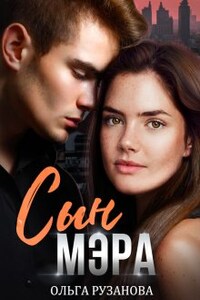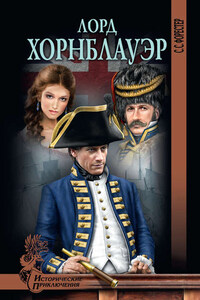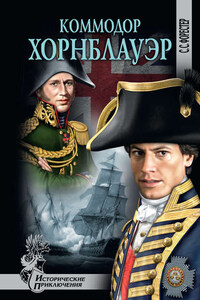Продолжение истории "Мой любимый враг".
Таня
В сумке у меня лежит блокнот. Там,
на первой странице, написано всего две фразы:
«19 июня.
Вчера у меня была самая страшная
ночь в моей жизни. Не дай бог кому-то такое пережить…».
И больше ничего.
Это мне психолог посоветовала
изливать мысли и чувства куда-нибудь, например, на бумагу. Но это
дело у меня не идёт. Чёрт знает зачем я блокнот с собой таскаю.
Вообще, предполагалось, что если я
всё опишу, то как бы отчасти разгружу себя, а, значит, смогу легче
перешагнуть события той ночи и жить дальше. Но эти две строчки –
самое большее, что удалось из себя выжать. Хотя я помню всё, до
мельчайших подробностей. И не просто помню, а будто снова и снова
туда переношусь.
И даже спустя почти три недели я всё
ещё вскакиваю во сне в холодном поту, задыхаясь. Иногда кричу и
просыпаюсь от собственного крика.
Психолог считает: меня травмировало
то, что я чуть не сгорела заживо, будучи, к тому же, запертой в
этой проклятой кладовке. Тут, якобы, благодатная почва для развития
и клаустрофобии, и пирофобии, и черт знает каких ещё фобий и
психических расстройств.
Но на самом деле страшно,
по-настоящему страшно, до одурения и остановки сердца, мне было в
тот момент, когда на моих глазах на Диму рухнула горящая балка. Я
до сих пор каждый раз внутренне умираю, стоит только закрыть глаза
и увидеть ту картину вновь. Вот он стоит всего в двух шагах от меня
– и вот…
Ох, я даже сейчас закусываю губу и
жмурюсь, пытаясь побороть внезапное острое желание разреветься
прямо здесь, в больничном коридоре. Это тяжело – хранить
спокойствие, когда сердце рвётся на куски. Но надо, потому что
плакать нельзя. Диме нужны только позитивные эмоции, иначе… Даже не
знаю, что будет иначе. Его врач на этом моменте в прошлый раз
сделал многозначительную паузу. И когда меня подпускают к Диме, я
веду себя, наверное, как легкомысленная дурочка. Щебечу про всякую
ерунду, хихикаю, ну, нежничаю ещё, когда в палате мы одни, а потом,
дома, рыдаю…
Хотя могло быть всё хуже, гораздо
хуже.
По крайней мере, Дима жив.
Не знаю, как я не сошла с ума в ту
ночь, хотя… вела себя тогда действительно как безумная. Рвалась к
нему в огненный зев этого проклятого ресторана, билась в истерике,
истошно кричала. Меня еле удержали. Отцу наговорила с три
короба.
«Это ты виноват! Ты! Со своей
дурацкой местью! С ненавистью твоей ко всем Рощиным! Доволен
теперь? Ты этого хотел?».
А если бы мне попалась в тот момент
Зеленцова, о-о-о… я бы, наверное, попросту разорвала её. Но она как
сквозь землю провалилась.
Позже, на допросе, Бусыгина сказала,
что Женька вместе с матерью под шумок уехали. Когда запахло
жареным, вышли за ворота на трассу, поймали попутку и смылись.
Их потом неделю искали. И всё-таки
нашли. Женькина мать, конечно, говорит, что они просто поехали
отдохнуть после ЕГЭ, но все уверены, что они пытались сбежать.
Причём так скоропалительно, что даже Женькин отец не был в
курсе.
Бусыгина сдала Зеленцову с
потрохами. И не только в том, что она меня заперла в той кладовке,
но и в том, что, когда начался пожар, Женька ей велела: «Молчи,
дура! Никто не узнает». Теперь обе под следствием. Будет суд.
Бусыгина, скорее всего, говорят, отделается лёгким испугом. А
Зеленцовой дадут срок, правда, неизвестно какой. Димка, слава богу,
выжил, но пострадал серьезно. И Женьке уже восемнадцать,
совершеннолетняя, значит, ответит по полной. К тому же они сбежали,
что тоже отягощает. Да и наш выпускной попал даже в федеральные
новости, и за делом теперь следит общественность.
Но самая дикость в том, что мать
Зеленцовой приходила ко мне. Просила дать показания получше, деньги
предлагала. На её беду отец был дома…