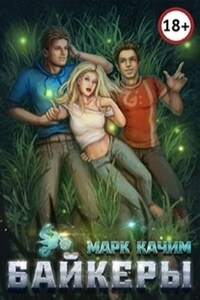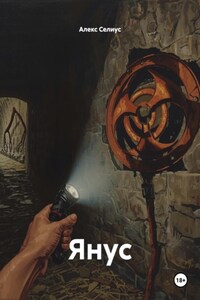Девушка была красивой. Когда-то при жизни, конечно, не сейчас. В кровавом месиве на белой коже не было ничего красивого.
– Первая? – поинтересовался я у Старосты, ставя на землю свой походный туесок[1].
– Пятая за год… – Староста виновато потупился. – Не серчай, бачко[2], мы ж тока мест сообразили, что тут чудодей нужен. Сразу за вами и послали.
– Добре, – я кивнул. Можно подумать, меня хоть когда-нибудь звали вовремя.
Заметил я и то, с каким усилием Староста назвал меня «бачко». В том тоже не было его вины: сложно величать так человека вдвое моложе себя. По крайней мере, на вид моложе. Бороду что ли все-таки отрастить?.. Еще бы росла она, зараза.
Открыв туесок, я вытащил из крепления на крышке пузырек и закапал в глаза растворенную в маковой росе чудь. Иные чудодеи сыпали ее в глаза прямо сырую, но я предпочитал более мягкое воздействие. И более дозированное – а то как надуешь больше, чем надо, так бдишь потом всю ночь да чудищ всяких по углам высматриваешь.
– Есть у вас здесь буява[3] какая поблизости? – поинтересовался я, ненадолго закрывая защипавшие глаза.
– Как не быть? – удивился Староста. – Село, чай, большое. И с соседних сел у нас покойников хоронят. Да токо с другой она стороны. Через село все да через лес.
– Для чудищ, что людей по ночам убивают, и семь верст – что твоя дорожка до сараю, – ответил я рассеянно и наконец огляделся.
Кровь. Много крови. Чудь всегда подсвечивала именно кровь – хоть старую, хоть свежую. Ярко-алая, она мерцала, манила в сгустившившемся и посеревшем воздухе. Все было неважно для порождений чуди, кроме крови. И самой чуди…
– Списочек бы мне, – сказал я и, не удержавшись, потянулся к особливо крупному сгустку чуди на жирном сочном листе клена. Староста меня не понял. – Перечень, говорю. Кто у вас тут из чудищ обитает. Вижу, что немало.
– Ну так эта… – Староста замялся, прикидывая в уме. – Так все, поди, как у всех. Суседки[4] в каждом доме, дворовые, овинники… Ну да те в лес не ходют. С бабаем[5] местным баган[6] наш договорился. Чтоб тот скотину не пугал, да и девок заодно. Даже свой вазила[7]-табунник у нас живет. Говорю ж: село большое у нас. А в окрестностях все по мелочи – ауки[8] мелкие да багники[9] на болоте.
– А лешаки? – я уже не мог остановиться – все собирал и собирал щедро рассыпанную по поляне чудь в серебряную табакерку, всегда готовую для таких дел.
– Да какие тут лешаки! – отмахнулся Староста. – Леса сплошь исхоженные, тропинками изрезанные. Грибов да ягод едва лукошко наберешь. Лесавок[10] если парочка, да и те хоронятся от людей. У нас-то только чудицы остались, чудищ-то сто лет, поди, как не видали, а уж чудовищ и подавно.
Про волколаков и прочую хищную чудскую фауну я спрашивать не стал. Как и пугать старика своим нездешним говором. Чудь – она ведь на многое глаза открывала. Например, на то, что родной мой мир, которому я уже лет тридцать как успешно помогаю, далеко не единственный.
– Добре, – повторил я, стараясь говорить покороче. – Ты иди, уважаемый, до дому. Выделите мне хатку какую, я у вас погощу. А покамест осмотреть мне тут надо. Авось увижу что интересное…
– Так ждет вас хатка-то! – обрадовался Староста. – Справная хатка у нас для вашего брата есть, баньку уже затопили, стол накрыли. Ждем вас, чудодей-бачко, воротайтеся побыстрее.
И, отвесив мне поклон до самой посыпанной чудью травы, он поспешно запрыгнул на толстенькую кобылку да и уехал прочь.
Я проводил его завистливым взглядом: мой компаньон лошадей не любил… Точнее, лошади не любили его и наотрез отказывались везти нас обоих хоть верхом, хоть в телеге. Только в крытой кибитке, которую мой помощник мог окрестить временным домом и оплести своими чудскими чарами, мы могли перемещаться с относительным комфортом – в таком виде лошади нас не боялись, чувствовали, что чудь наша добро несет.