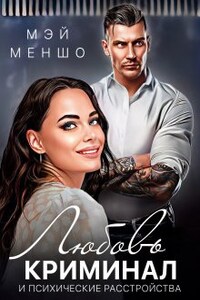⅏
— ДАНТЕ —
В реальной жизни всегда побеждает
зло.
В этой истине я лично убедился.
А раз так, значит, я должен стать
ещё большим злом, чтобы все прогнившие, погрязшие в грехах твари
знали своё место.
Хрустнул пальцами, затем шеей и
нанёс уроду новый удар. Мой кулак рассёк ему другую бровь.
Следующий удар, и я ломаю ему
челюсть.
Избиение продолжается почти час.
Мудак корчится на холодном,
окровавленном полу, запах его крови щекочет мои ноздри. Он уже
сдался. Он молил о пощаде. Он просил прощения.
Но мне всё мало.
Гнев разъедает нутро. Ярость требует
всё больше страданий и крови.
Хватаю его за волосы и заставляю
смотреть в своё лицо.
— Так что ты там говорил о моей
покойной сестре?
— П… хро… ссти… — хрипит он, едва
проговаривая слова. Из-за сломанной челюсти ему трудно
говорить.
Разжимаю кулак, и его голова с
глухим стуком падает на железобетонный пол.
— Прости? — усмехаюсь я горько. — Ты
своё «прости» в жопу себе запихай.
— Данте, может, хватит? —
обеспокоенно спрашивает моя шестёрка. — Он извинился. Много раз. И
уже ответил за свои слова. Ты же почти убил его…
Я заворожено смотрю на тело у своих
ног.
Краем глаза замечаю, как Тихарь
отталкивается от стены и медленно приближается ко мне.
Он останавливается на безопасном
расстоянии от меня и произносит тихо:
— Данте. Хватит. Пощади его.
Пожалуйста.
«Хватит».
«Пощади».
«Пожалуйста».
Три слова в мёртвой тишине тёмного
переулка.
Три слова, которые с мольбой
произносили убийцы моей сестры.
Они молили простить их. Молили не
убивать.
Наложили от боли и страха в штаны и
рыдали, рыдали, рыдали.
Диана. Моя сестрёнка Диана. Она тоже
молила остановиться. Молила своих насильников прекратить.
Ублюдков её мольбы лишь распыляли. И
они принимались с ещё большим рвением терзать её тело и калечить
хрупкую душу.
Смотрю на тело у своих ног и не
испытываю сострадания.
Насильники и садисты никогда не
испытывают сострадания к своим жертвам. С хера ли я должен
сострадать им и испытывать жалость?
Достаю из кармана тюремных брюк
идеальную заточку и показываю её мудаку у моих ног, что осмелился
открыть своё хайло и осквернить погаными словами память моей святой
сестры.
Он дрожит и поскуливает от
абсолютного страха. Потрясение и агония в его глазах безошибочны.
Всегда были безошибочны.
Страх в глазах моих врагов не
вызывает у меня ни радости, ни злости, ни отчаяния. Ничего. Я давно
перестал чувствовать что либо, кроме глухой ненависти и ярости ко
всему сущему.
— Услышу ещё хоть раз любое слово о
своей сестре, или просто подумаешь о ней, тогда я отрежу тебе язык.
Вот этой заточкой. Затем оторву яйца и затолкаю их в твою поганую
пасть, — я говорю спокойно, негромко, как если бы говорил в храме с
людьми, спросившими у меня совета.
Взгляд урода полон ужаса. Он
отчаянно кивает. Он всё, что угодно, сейчас сделает или скажет,
лишь бы я оставил его в покое.
— Тихарь, его здесь называют Волком,
верно?
Шестёрка кивает и произносит:
— Да. Его фамилия Волков.
Опускаюсь на корточки, глажу Волкова
по ушибленной и залитой кровью голове и договариваю:
— Запоминай, Волк, я здесь заперт
надолго. У меня пожизненный срок. И мне нечего терять. Абсолютно
нечего. Мне глубоко срать, добавят мне ещё один пожизненный срок,
или два, да хоть десять. Поэтому благодари Тихаря, что он остановил
меня, иначе я бы тебя добил. Проболтаешься кому-то обо мне –
обеспечу твою печень ударом пера.
В нос ударяет запах мочи. Туши, по
ошибке именуемые людьми, всегда превращаются в отвратительные куски
дерьма, когда смерть буквально дышит им в затылок.
Они боятся умереть. И цепляются за
свою жалкую, ничтожную и бессмысленную жизнь.
— А что ему сказать, Данте? —
вылупился на меня Тихарь. — Он же не просто избит, ты же искалечил
его. Обе ноги сломаны, все пальцы на руках вывернуты назад. Обе
руки – открытый перелом. И рожа, как в фильмах ужаса.