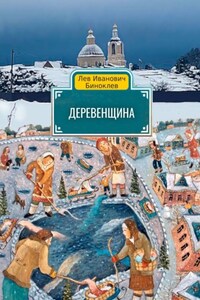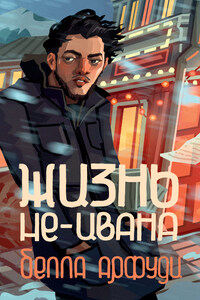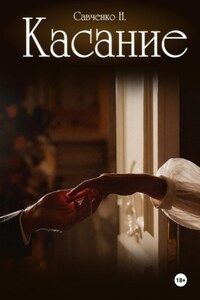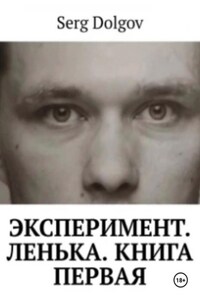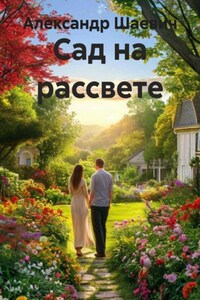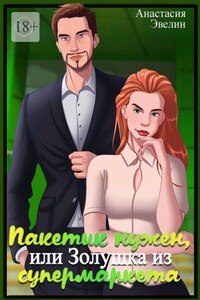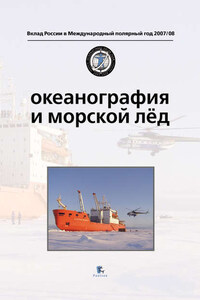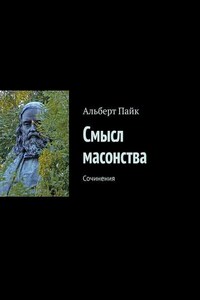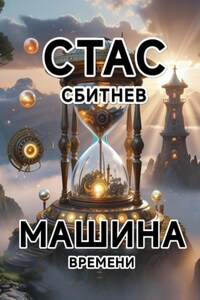Редактор Полина Полежаева
Иллюстратор Александр Гусев
Фотограф Алексей Филатов
Составитель Полина Полежаева
© Лев Биноклев, 2025
© Александр Гусев, иллюстрации, 2025
© Алексей Филатов, фотографии, 2025
© Полина Полежаева, составитель, 2025
ISBN 978-5-0067-7143-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Иногда полезно вернуться в волшебный мир детства – проверить, не забыл ли ты там чего-то важного. Искренность, честность, непосредственность… А может быть, и главное – умение радоваться каждому дню как увлекательному приключению, полному открытий.
Обычная встреча соседей у водоразборной колонки, прочно засевшая в памяти, стала отправной точкой для воспоминаний о деревне моего детства – так появился рассказ «Колонка».
Размышления о том, почему ранние годы жизни считают самыми счастливыми, неожиданно вывели на сюжет рассказа «Лучшие друзья».
А в «Застолье» бережно собраны подлинные семейные истории, услышанные мною за общим столом от родных.
«Деревенщина» поможет вам вспомнить всё и хотя бы мысленно вернуться туда – в простую, понятную и настоящую жизнь. Три коротеньких рассказа в конце сборника, «Березайка», «Зонтик» и «Полет шмеля», ненадолго продлят удовольствие от путешествия в прошлое. Ведь, как известно, все мы родом из детства.
С возрастом люди перестают бояться смерти, но почему-то еще сильнее цепляются за жизнь. Пишут завещания, присматривают место для могилки, стараются оставить после себя память.
Вспоминаю давнишнюю встречу с Николаем Королёвым у деревенской колонки. Королёв-дом, расположенный напротив церкви, дал имя и водоразборной колонке, и проулку. Сосед знал меня с детства, когда я приезжал на каникулы к бабушкам: в родовое гнездо или, как мы говорили, просто «в деревню».
Я помнил его еще Колькой: как он лазил на купол нашей заброшенной церкви, что сиротливо стояла без креста, заросшая березами прямо на крыше. Ржавые листы железа местами отваливались, и подниматься приходилось, цепляясь за обнажившуюся обрешетку. Вся деревня судачила о его восхождениях: не то чтобы восхищаясь, но и не осуждая.
Я и сам часто бывал в том храме. Поднимался на колокольню, цепляясь за выступы выбитых кирпичей. С ребятами залезали внутрь, там был заброшенный колхозный склад с горой старых мешков и пирамидами оцинкованных тазов. Все было густо покрыто голубиным пометом, а сами птицы чувствовали себя под дырявой крышей как дома. Старшие приладили к крестовине под сводом тарзанку, и мы катались на ней по очереди, словно воздушные гимнасты под куполом цирка.
Говорили, что когда-то в церкви был клуб, и по выходным там показывали кино. Самым популярным был трофейный фильм про человеко-обезьяну Тарзана. Я клуба уже не застал: все это было сразу после войны.
Помню, как в детстве у моего товарища погиб в автомобильной аварии отец, деревенский шофер. Провожать его в последний путь приехали все грузовики совхоза. Длинная колонна медленно двигалась от нашей заброшенной церкви к кладбищу по Королёву проулку, гудя в знак прощания. Нас, пацанов, сажали в кабины и даже позволяли немного порулить. А вокруг, сколько хватало взгляда, простирались поля, в те времена щедро засаженные морковью и редисом, который мы ели прямо с грядок, слегка очистив от земли и потерев о штаны. Однако вся сила, по мнению бабушки, была в капусте: «Ешь капусту – будешь тонок да звонок», – часто повторяла она.
Мария Васильевна, родная сестра отца моей мамы, всю жизнь проработала в колхозе, а позже – в совхозе. Бабушка дослужилась до бригадира полеводческой бригады, в том числе выращивая капусту. Мария Васильевна имела статус народного депутата местного Совета. Все звали ее просто – Крёстная, не особенно задумываясь о значении этого слова. Я и вовсе сократил имя до Крёстна.