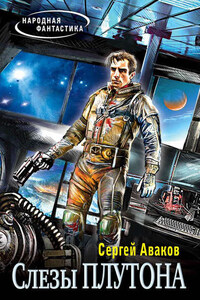Мир, который видят все, – плоская картинка. Блеклая копия настоящего.
Настоящий мир – это гобелен, сотканный из незримых нитей. Каждое сильное чувство, каждое важное решение, каждый момент красоты или ужаса оставляет на нём свой след. Эти эхо-отпечатки вплетаются в ткань реальности, наслаиваются друг на друга, создавая сложнейший, постоянно меняющийся узор.
Большинство проходят сквозь этот гобелен, не замечая ничего. Они не чувствуют, как по их коже скользят шелковистые нити нежности, оставленные влюблёнными у подъезда. Не замечают, как колючие заросли старой ненависти в подворотне заставляют их инстинктно ускорить шаг. Они не видят ослепительных вспышек надежды, что, как светлячки, вспыхивают над головой у мечтателей, и не ощущают леденящих провалов горя, в которые можно провалиться, если наступить не на тот участок паркета в старом доме.
Они слепы.
А некоторые – видят.
Их единицы. Их называют Читателями, Архивариусами, Следопытами. А иногда – Проклятыми. Потому что видеть истинную ткань мира – это и благословение, и тяжкое бремя. Жить в постоянном шуме чужих душ, слышать эхо давно забытых слёз и смеха, знать секреты, которые никто не собирался тебе доверять…
Это история об одной из таких. О Тэе, которая могла читать Следы. И о том, что даже в самом громком хоре всегда найдётся место для тишины. Тишины, которая звучит громче любого эха.
Вокзал был адом, сотканным из эха.
Тэя стояла, прижавшись спиной к шершавой, холодной стене, в тени массивной арки, и пыталась дышать. Не просто вдыхать воздух, густо замешанный на запахах пота, дешёвого парфюма, пыли и жареных каштанов, а делать это ровно. Медленно. Как учила бабушка в детстве, зажимая её маленькие ладони в своих тёплых, исчерченных морщинами руках: «Вдох на четыре счета, сердце моё. Задержка. И выдох – на шесть. Выдыхай боль, выдыхай шум. Они не твои».
Слова были правильными, ритуал – отточен годами. Но сегодня они не помогали.
Её атаковали не звуки. Оглушительный гул сотен голосов, рёв динамиков, объявляющих о прибытии и отправлении поездов, и скрежет тормозов были лишь фоном, назойливым, но терпимым. Её разрывали на части Следы.
Вот прямо перед ней, на потёртом до матовости каменном полу, клубилось малиновое, липкое пятно *Паники*. Оно пульсировало, как свежая рана. Тэя знала – его оставил тот самый бизнесмен в помятом костюме, что полчаса назад метался тут, срывающимся голосом умоляя всех посмотреть под ноги, он искал пропавший паспорт. Отпечаток был таким ярким, что у неё во рту стоял привкус адреналина, горький и металлический.
Рядом, обвивая ножки скамейки, вились две серебристые, почти невесомые змейки *Нетерпения*. Они исходили от стройной девушки с каре, которая беззвучно барабанила длинными ногтями по крышке ноутбука, её взгляд постоянно метался к входу. Тэя чувствовала лёгкое, щекочущее нервы покалывание – точь-в-точь как перед долгожданной встречей.
А над всем этим, тяжёлым, незримым куполом, висели старые, въевшиеся в саму структуру здания *Следы* бесчисленных *Прощаний* – прозрачные, солёные на вкус воспоминания, каждое с крошечной ледяной сердцевиной *Потери*. Они были повсюду: у турникетов, где обрывались объятия; у билетных касс, где люди смотрели в спины уходящих; у телефонов-автоматов, где голос в трубке становился последним. Эти эмоции проступали прямо на её сетчатке, накладываясь на физический мир, как проклятая, никому не видимая augmented reality.
Тэя зажмурилась, но это не спасало. Она *видела* их веками. С самого детства этот дар был её неотъемлемой частью – и её клеймом. Она натянула свои перчатки – особые, из плотного чёрного шёлка с вплетёнными тончайшими медными нитями. Бабушка называла их «посохом слепца». Они не глушили Следы полностью, но приглушали их до терпимого, хоть и изматывающего фона, как беруши, но для глаз и всей нервной системы.