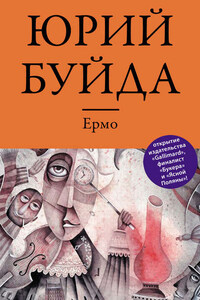Тишина в мастерской была особой – густой, тяжёлой, словно состоящей из неслышных вибраций десятков остановившихся сердец. Здесь, в подвале старого дрезденского дома, время текло иначе. Оно не уходило вперёд, а оседало тонкой пылью на столах, застывало в каплях воска на старинных шестерёнках и вплеталось в шёлк и бархат.
Аларик Шульц стоял у своего рабочего стола, освещённый единственной зелёной лампой. Его движения были без суеты, почти ритуальны. В его руках были карманные часы – золотые, с гравировкой в виде ласточки. Они принадлежали молодому скрипачу, чья карьера оборвалась из-за панической атаки прямо на сцене.
Аларик не просто ремонтировал механизм. Он был часовщиком в куда более высоком смысле. Он настраивал судьбу.
Он закрыл глаза, и его пальцы, холодные и сухие, легли на крышку часов. Он не чувствовал воспоминания, как это делали другие. Нет. Он чувствовал узоры – хаотичные, рваные нити страха и сомнений, оставленные прежним владельцем. Это было безвкусно. Несовершенно.
– Хаос, – прошептал он, и в его голосе не было осуждения, лишь констатация факта, как у садовника, нашедшего сорняк.
Его сознание, отточенное десятилетиями практики, коснулось этих нитей. Он не стирал их. Он был не разрушителем, а ткачом. Он находил самую яркую нить – панический ужас перед публикой – и начинал вплетать ее в основу личности скрипача. Он усиливал ее, делал доминирующей, закольцовывал, пока та не становилась единственным логичным путём. Он создавал идеальную, завершённую мелодию страха. Произведение искусства из чужой сломанной воли.
Когда он закончил, часы тихо затикали в его руке. Теперь они были не просто предметом. Они были инструментом, камертоном, настраивающим реальность. Скрипач, вернув их, уже никогда не сможет подняться на сцену. Один лишь вид циферблата будет вызывать удушающую волну паники. Его судьба была теперь исправлена, приведена к тому идеалу слабости, который видел Аларик.
Он бережно положил часы в бархатный футляр. Его взгляд упал на полку, где стояли другие его «работы»: брошь женщины, которая после их встречи бросила семью и уехала в монастырь; портсигар бизнесмена, начавшего заниматься благотворительность после того, как тот чуть не разорился; перочинный ножик мальчика, который внезапно, без видимой причины, перестал бояться темноты.
Он был Хранителем. Он брал кривые, нелепые линии человеческих жизней и превращал их в идеальные геометрические фигуры. В симметрию.
С полки он взял старую фарфоровую куклу. У неё были безжизненные голубые глаза и лёгкая, загадочная улыбка. Ее прежняя хозяйка, девочка по имени Эльза, была его первой… значительной работой. Ее судьба была такой яркой, такой насыщенной чистым, детским страхом в момент завершения. Он вплёл его в куклу, создав шедевр, который хранил в себе саму суть того перехода.
Но сейчас он смотрел на куклу и думал не о прошлом, а о будущем. Его источники в полиции сообщили, что одно старое дело вновь привлекло внимание. Американская журналистка. И кто-то ещё… Кто-то, кто почувствовал его «вплетение». Кто-то с похожим Даром, но другим. Пассивным.
– Пришло время, моя маленькая, – прошептал он. – Найти нового слушателя для нашей симфонии.Аларик провёл пальцем по холодной фарфоровой щеке куклы.
Он упаковал куклу в простую картонную коробку. Она должна была отправиться в путешествие. Не в качестве орудия, а как приглашение. Как тест.
Если этот человек, этот «Эхочувствительный», сможет её прочесть и не сломаться… возможно, он достоин стать не врагом, а преемником. Ткачу нужен был ученик. А для ученика нужен был самый сложный урок.
Урок, который начинался с шёпота из прошлого.