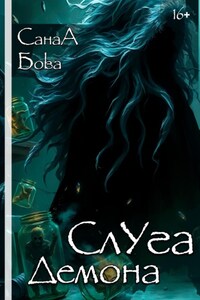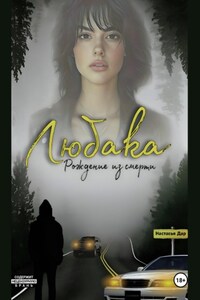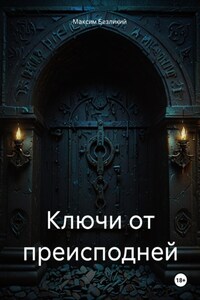Мрак плотно обвивал стены тесного помещения, впиваясь в каждую трещину, и неровность, стремясь сокрыть от взора то, что не должно быть увидено. Лишь дрожащее, неустойчивое пламя свечей разрывалось на полоски света, которые, едва коснувшись стен, отбрасывали зловещие тени. Эти тени, будто слуги невидимой силы, пускались в безумный хоровод, превращаясь в уродливые силуэты с искривлёнными конечностями, хищными оскалами и затаившимися в темноте глазами. В центре комнаты, на полу, устланном старым, выцветшим ханбоком, красовался сложный узор, выведенный густой словно смола смесью красной краски и чего-то более зловещего, как застывшая боль.
Ритуальный круг, подобно паутине из древних тайн, был усеян корейскими символами, переплетающимися с тонкими линиями пентаграммы, мерцающей во мраке. Она вспыхивала то тусклым, то ярким светом, точно сердце, забившееся в страхе перед неизбежным. В воздухе густо смешивались запахи – резкий, почти режущий ноздри металлический аромат крови, горечь ладана, что проникала в лёгкие, оставляя в них тяжесть, и едкий запах дыма от тлеющих трав, наполняющий пространство остротой древней магии. Каждый вдох приносил неосознанный трепет, словно сама атмосфера комнаты пыталась сказать, что здесь нарушено что-то великое.
В дальнем углу комнаты, почти слившись с тьмой, неподвижно сидела фигура. Она была облачена в чёрный ханбок, некогда, возможно, блиставший своей роскошью, но теперь выцветший, изодранный, с обтрёпанными краями, которые напоминали следы когтей, оставленные временем или чем-то более тёмным. На ткани угадывались узоры дракона, но они потускнели, словно даже легендарный дух покинул этот символ, уступив место разрухе и пустоте.
Лицо скрывалось под маской, настолько зловещей, что она казалась живой частью этого места. Грубая, с искажённой ухмылкой, она будто выражала гнев и скорбь одновременно. Её глаза-щели, глубокие и пустые, смотрели прямо в душу каждого, кто осмелился бы взглянуть в их бездну, превращая дыхание в сухой, прерывистый вздох.
Фигура молча склонилась над алтарём. На простом деревянном столе, испещрённом трещинами и потёртостями, лежали ритуальные предметы, как артефакты из мира, который давно стал мифом. Здесь был кинжал с костяной рукоятью, на которой выступали узоры в виде змей, древний текст, страницы которого были настолько ветхими, что казались готовыми рассыпаться от одного прикосновения, и бронзовый сосуд, изъеденный временем. На его поверхности танцевали демоны, застывшие в вечной пляске, а внутри булькала густая тёмная жидкость, поверхность которой отражала пламенные языки свечей, создавая иллюзию скрытой глубины.
Вся сцена была пропитана атмосферой чего-то древнего, забытого, что ожило вопреки законам времени и человеческой воли.
– Слушай меня, великий Мунсин, дух луны и теней. Прими эту жертву, что я приношу в твоё имя, и позволь миру узнать истину через боль и разрушение, – прошептал он голосом, который звучал, словно из самой глубины бездны. Глухой и тягучий, этот голос будто заполнял собой пространство, как вязкий туман, просачиваясь в каждую щель, обволакивая холодной, неизбежной тишиной. В нём слышалась напряжённость, как в струне, готовой оборваться, или в последнем вздохе перед прыжком в пропасть.
Его дыхание, сбивчивое, как у загнанного зверя, перемешивалось с острым, металлическим запахом крови, которая уже наполнила воздух. К этому примешивался горький аромат ладана, будто воплощение чего-то древнего, что стояло на границе священного и запретного. Этот запах, смешанный с едким дымом тлеющих трав, вызывал ощущение, будто сама комната дышит, наполняясь силой чуждой и неподвластной смертному.