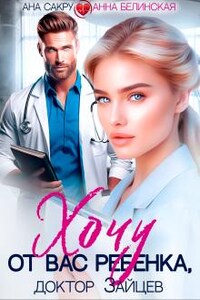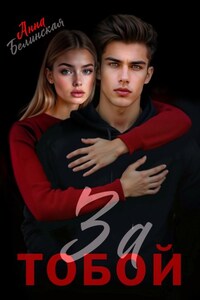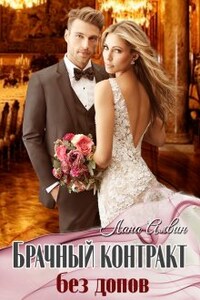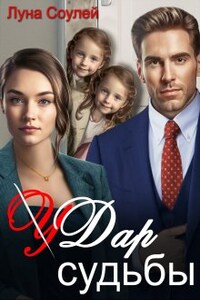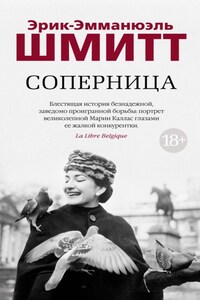Из полудремы меня выдергивает отбивающий на столе чечётку
вибрирующий телефон. Приоткрываю один глаз и обреченно закатываю
его обратно.
Перерыв между парами я хотел
потратить на пятнадцатиминутный отдых, а придется выслушивать
очередной бред.
Протерев ладонью лицо и взъерошив
волосы, принимаю звонок:
— Да. Слушаю.
— Илюша, это ты, сынок? — умирающим
голосом спрашивает Аглая Рудольфовна, моя бабушка по материнской
линии.
— Я, бабуль, я, — прикрываю рот и
зеваю.
— Ох, что-то не признала тебя,
милый, — ропщет бабуля. — Я тебя не отвлекаю?
— У меня перерыв. Слушаю
внимательно.
Относительно внимательно. Бросив
взгляд на наручные часы, замечаю, что до семинара у
бакалавров-третьекурсников остаётся менее семи минут. А значит, с
минуты на минуту аудитория наполнится галдящими студентами.
— Хорошо, милый, — кряхтит Аглая Рудольфовна.
— Бабуль, что случилось? — смотрю устало в окно. Мелкий снег
ненавязчиво кружит в воздухе, убаюкивая. Конец марта, но в Москве
не пахнет весной. Пахнет очередной депрессией и авитаминозом у
москвичей, а мне, по большому счету, ровно. Я не поддаюсь погодным
провокациям и не жду обещанных прогнозов. Я дышу по типу «живем
один раз», так стоит ли растрачивать свое время на лиричное
уныние?
Мои глаза слипаются, хоть спички вставляй. До полуночи я снимал
напряжение в теплом молочном теле очередной моей новой подружки на
разок, а после, проводив Веронику-Марину-на-вечер, просидел до трех
часов ночи, проверяя контрольное тестирование у энергетиков.
— Всё. Это конец, Илюш, — вздыхает ба.
Закатываю глаза и, смачно зевнув, откидываюсь на спинку
стула.
— Бабуль, это уже третий конец. И, заметь, только за эту неделю,
— равнодушно вещаю и вновь смотрю на часы.
Если мы собираемся обсуждать подошедший срок ее кончины, то это
может растянуться на годы. Собственно, Аглая Рудольфовна уже как
года три беспрерывно собирается на тот свет. У нее заготовлена
сумка на этот случай, ожидающая в прихожей у двери.
— Нет, Ванюш, я чувствую. В этот раз точно. Мой час пробил, —
слышу звук опустошенного сливного бочка и морщусь: опять из туалета
звонит.
— Илья, ба. Я Илья.
Она прекрасно знает кто я. Когда хитроумная Аглая Рудольфовна
называет меня именем моего почившего деда, она лишь
предусмотрительно сгущает краски. Для каких-то своих целей. И я с
интересом жду, какова цель в этот раз.
— Ах, точно. Илюша, внучок, — мне снова хочется закатить глаза,
но вовремя вспоминаю слова всё той же бабули, когда в детстве она
пугала меня байками, что если часто так делать, то глаза могут не
вернуться обратно. Не знаю как, но это работает. — Вот видишь,
память совсем стала подводить старую никому ненужную бабку, —
хлопает дверью и громко шаркает тапками.
Ну, конечно.
Я все-таки закатываю глаза.
С памятью у Аглаи Рудольфовны полный порядок. Она помнит, по
какой цене продавалась селедка в прошлом месяце, может запросто
назвать курс доллара шестилетней давности, и перечислить все дни
рождения звезд нашей эстрады, начиная с Шаляпина. Того, который
постарше.
Так что эти сказки про старческий
склероз пусть рассказывает своим подружкам по сплетням. А у нее их,
к сведению, целый автопарк, вагон и приличная тележка. И это тоже к
тому, что она — старая никому ненужная бабка.
Бабуля большую часть своей жизни
проработала в столовой при автовокзале поваром. Ее знали и уважали
все: от шофера до вокзального бомжа. Ей покланялись местные собаки,
которых она подкармливала объедками, отдавали приветствие
сотрудники правоохранительных органов, патрулирующие вокзал, за
вечерние подгоны остатков колбасных обрезок и мясных вырезок,
целомудренно сэкономленных на гуляшах и киевских котлетах для
пассажиров. Она одна, без посторонней помощи, готовила блюда для
празднования свадьбы дочери заместителя мера лет тридцать назад. Ей
целовал руки сам Иннокентий Смоктуновский, когда обедал в здании
автовокзала перед рейсом Москва-Кисловодск. Но думаю, сей факт
своей биографии Аглая Рудольфовна нафантазировала. Хотя…