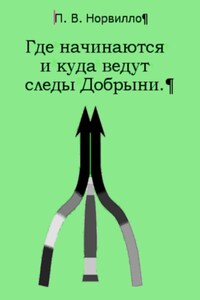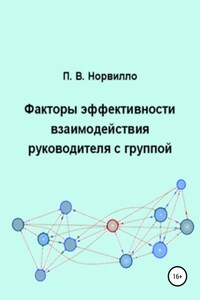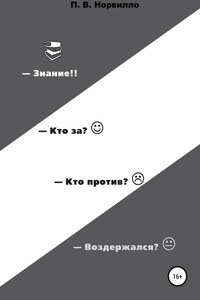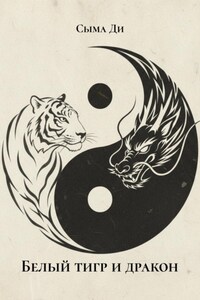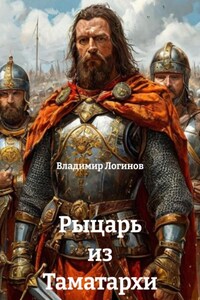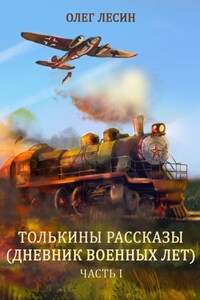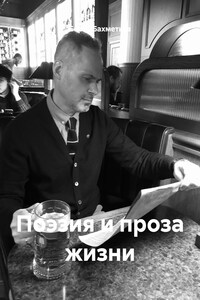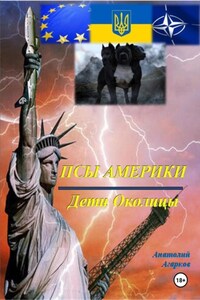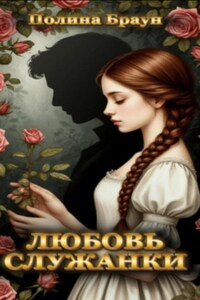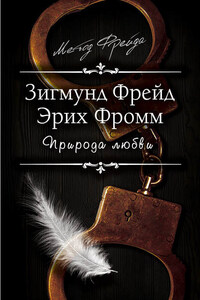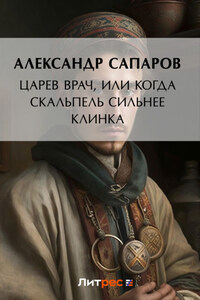В качестве вступления и чтобы сразу отвести от нижеследующих заметок упрёки в анахронизмах, стоит, пожалуй, сказать несколько слов об их (заметок) статусе. Так вот главной особенностью настоящего исследования является то, что в нём, наряду с объективными, будут также рассматриваться и многие субъективные аспекты событий, в частности, Х века. Вместе с тем, поскольку вниманию читателя предлагается не художественная, а научно-теоретическая реконструкция, то, представляя логику размышлений и поступков исторических персонажей, мы не будем даже пытаться загримировать суждения и выводы наших героев под привычный им строй речи. Отдельные эпизоды и лежащие в их основе более глубокие исторические процессы будут разбираться с точки зрения принципов социально-экономического и политического развития, установленных в основном в Новое и Новейшее время. Поэтому планы и замыслы в том числе жителей совсем других эпох будут излагаться, как правило, привычным нам языком, лишь с минимальным привлечением терминов и образов того времени. И если кому-то начнёт казаться, что в излагаемой версии современники Мала и Добрыни рассуждают чересчур уж “по-нашему”, ему следует сделать скидку на то, что перед ним попытка восстановить не форму, а лишь общее содержание, политическую суть намерений и расчётов, которые старались воплотить в жизнь те или иные общественные слои и возглавлявшие их личности. Не больше и не меньше.
I
. К вопросу о субъективных предпосылкахКоростеньского мирного договора 946 года.
Едва ли нужно долго доказывать, что события 946 года занимали в жизни Добрыни исключительное место. Ведь даже когда в 977 году ему и Владимиру приходится покинуть страну, с ними остаётся армия, а главное, остаётся сама Русь, где большинство граждан будут ждать их скорейшего возвращения, горя желанием покончить с возрождённой варяжской диктатурой. Тогда как в 946 году семья древлянского князя теряет всё, включая свободу и возможность прямо влиять на происходящее. И хотя со временем положение пленников меняется к лучшему, совсем не очевидно, насколько реальными были надежды на это и были ли они вообще; всё-таки 10 лет немалый срок. Такие переломы в судьбе не проходят бесследно, а тем более в 10-12 лет, когда человек вообще всё воспринимает ярче и резче.
Поэтому, чтобы хотя бы попытаться понять, чем обернулись лично для Добрыни восстание, а затем капитуляция его родной земли, необходимо ещё раз обратиться к предыстории и всему многообразию ближайших итогов и более отдалённых отголосков вооружённого конфликта, развернувшегося в 945-946 годах между Киевом и Коростенем.
А для начала кратко напомню, как выглядит выступление древлян в свете заслуживающих доверия источников и разысканий А. М. Членова.
Итак, после разгрома варяжской дружины князя Русского Игоря и казни его самого древляне отправляют в Киев делегацию с поручением известить тамошних жителей о том, что их правителя больше нет, а также о принятом в Коростене решении присоединить владения и семью Игоря к владениям и семье князя-победителя Мала. Киевские власти, во главе которых на правах регентши становится Ольга, подобные претензии отвергают, однако, лишившись главных ударных сил, на первых порах предпочитают открыто не обнаруживать своей позиции. По видимости соглашаясь с частью требований древлян, мать юного Святослава отклоняет другие и выдвигает какие-то встречные условия, завязывая таким образом переговоры с Коростенем. Судить об их деталях на основании летописной версии нелегко, но точно можно сказать, что в Киеве побывало по меньшей мере ещё одно древлянское посольство и что параллельно с дипломатическими маневрами в Полянской земле шёл экстренный сбор местного ополчения. А когда в руках правительства Ольги-Свенельда-Асмуда оказывается достаточная вооружённая сила, игра в переговоры с Коростенем резко обрывается, уступая место открытому военному противостоянию