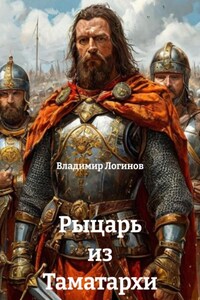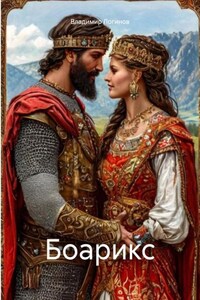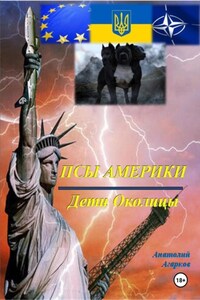Раннее летнее утро застало деда Богуна в глубокой задумчивости. Он сидел на обросшем мхом валуне, на берегу моря, и взор его был устремлён скорей в себя, хотя, казалось, смотрел он куда-то в туманную даль. На чистом, будто умытом утренней росой небе, ещё синем, но уже тронутом розовой полоской зари, проглядывали кое-где колючие звёзды. Рассвет всегда наступает раньше, чем проснётся ветер и придёт из степи к воде, а потому поверхность её была спокойной гладкой; море ещё спало и дыхание его отражалось только в ленивой волне, набегавшей с лёгким шипением на прибрежную гальку. Эту утреннюю тишину и отсутствие какого-либо движения нарушали только две чайки, носившиеся со стонущими криками над морской гладью. Однако эти суетливые птицы, и дед Богун казались маленькими, а потому проглатывались утренней тишиной, морем и степью. Всё как-то переходило в иной мир, в иную жизнь, отличную от людской. Степные духи отступали, но как дикие звери, залегали где-то в складках бескрайней равнины, в дубово-буковых лесах вдали. За синей полосой горизонта клубилось что-то недоброе, подстерегающее, но куда-то манящее и загадочное…
Рассвет наступал медленно, но неотвратимо. Вот и ветерок проснулся, шевельнул седые космы на голове деда, и красавица-заря за его спиной окрасила нежнейшими охристо-розовыми валёрами четвертушку небесного свода, но он не обратил внимания на эту красоту. Перед его затуманенным взором протекал иной мир: мир его молодости с боевыми походами, с уртонами возле родников и рек, с жаркими сечами и тризнами после них. Вместо ноющих криков чаек слышал он визг и ржание коней, призывные звуки боевых труб, страшный лязг и звон мечей, стоны и выкрики, столкнувшихся в боевом азарте ратных дружин.
Дед будто слился с валуном, на котором сидел, но спина его не выглядела согбенной, придавленной прожитыми годами. Наоборот, хоть и подсохший от времени, стан его выглядел прямым, а в лежащих на коленях узловатых руках чувствовалась былая сила. Видно было по всему, что старик в молодости был громадиной. Такой спокойно мог размахивать тяжёлым, шипастым моргенштерном, мечом и боевой секирой. На левой щеке старого воина виднелся безобразный шрам от стрелы, которую он, по-видимому, в пылу боя просто вырвал с кусочком жевательной мышцы и кожи, а потом ему просто замазали рану густой смесью мёда и дёгтя.
Так как наступило пролетье и тепло, старик был бос. Ступни, в какой-то чешуе вместо кожи с загнутыми вниз жёлтыми ногтями, больше смахивали на куриные лапы. Однако одет он был в белую длинную рубашку, с вышитым красной нитью узором по подолу и вороту. Только рубаха эта была не простой, не для рыбака или пахаря. Она была из дорогой, висконовой ткани, византийского производства, а потому такое одеяние и широкий, в ладонь, военный ремень на поясе, указывали на то, что дед Богун принадлежал к знатному сословию.
Палевая дымка по горизонту сгустилась и порозовела, поверхность воды в море из тёмной стала нежно-салатного цвета, утренний бриз породил лёгкую волну. Дед очнулся от воспоминаний и повернул голову в сторону бегущего к нему верзилы с обрубком бревна на плечах. Сбросив бревёшко на гальку, парень заговорил:
– Ну, дед, сёдни пять поприщ отмахал!
Богун, взглянув на мокрую, прилипшую к телу, льняную рубаху парня, приложил суховатую ладонь на вздымающуюся грудь, и бодро заметил:
– Топаешь быдто лошадь, взмок лишку, а энто худо, но ништо, важно, что не задохся, младень! Сердце стукотит ровно, гулко! Эх вы! Привыкли всё на кониках гарцевать, а мы вот бывало, в молоди, в бытность деда твово, князя Святослава, по десять поприщ с полным вооружением пешком, рысью, пробегали, и хоть бы хны! Избаловались вы, нонешние!