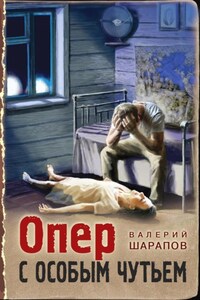Холод. Полночь. Ад.
Небо черное, опрокинутое, и место ему внизу, в преисподней. Новолуние, потому темно, и звезды редкие, жалкие, похожие на дыры в брезенте, отражаются в чернильной ледяной воде моря. Снег, жесткий, как наждак, хрустит под ногами, как брошенные, раздробленные кости.
Тихо. Только внезапно взревел, будто спросонья, буксир в порту. Звенит воздух от мороза, стужа впивается в голые пальцы, забирает последнее тепло из легких. Каждый вдох – точно глоток битого стекла. Трясет замерзшими полами вертухай на вышке.
Тьма густая, как мазут, сквозь нее живым огнем то и дело вспыхивает окно котельной, в тот момент, когда истопник открывает дверцу ревущей топки.
И вдруг – взрыв. Жахнуло так, что стекла в корпусе брызнули картечью. Котельная разорвалась изнутри, медленно падали стены, рвалось наружу ликующее пламя. Труба корчилась, изрыгая клубы едкого дыма.
Огонь весело лизал небо длинными языками, жрал доски, перекусывал бревна, которые трещали. Искры взлетали вверх и тотчас гасли в морозном воздухе. Жар от этого огня был ложный, он не грел, не давал тепла, а запускал по земле густой удушливый дым. Снег вокруг котельной таял, обнажая покрытую угольной пылью землю, и лужи тотчас замерзали, становясь похожими на зеркала.
Люди высыпали из бараков, вопили: «Пожар!», «Не подходите!», «Горючка!», «Рванет!», – и все равно носились с баграми да ведрами. Покачивался на горячем ветру кусок ватника, прилипший к горящему бревну.
Холопья, презрев опасности, тушили пожар, дворянство – администрация колонии – собралось на собор. Барин[1] в тулупе, надетом прямо на пижаму, смачно выругался, сплюнул в снег.
– Твою ж… минус тридцать, дуба дадим.
Скряга[2], опухший после вчерашнего возлияния, икал от мороза:
– С-сейчас, дровец подгон… ик… м.
Коновал[3] напомнил:
– Макар Ильич, там неактированные жмуры были сложены.
– А почему там? Не греет печь – греет хата на костях?
– Места нет в покойницкой.
– Да пес с ними.
– Котельную жаль, – переживал скряга.
Барин спросил:
– А кто виноват-то в том, что лом безрукий у тебя там нынче дежурил?
Скряга похлопал себя по карманам, которых в кальсонах не было, стало быть, и блокнот отсутствовал. Тогда он крикнул зека, отвечающего за дрова и котельную, спросил об истопнике. Тот доложил:
– Князев, пятьдесят восемь – четырнадцать, пятьдесят девять – три, еще[4].
– Короче, – приказал барин.
– Крыс музейный, гражданин начальник.
Замнач по оперработе заключил со знанием дела:
– Беды все от интеллигенции.
– Вылетел в трубу на небеса, все проще, – подвел черту разговора барин. – Михалыч, на жмуров сегодня же накатай актировку, понял? И крыса впиши.
Лагерный врач молча козырнул. Добрый барин вспомнил, что забыл, и обратился к скряге:
– Придурку своему накажи, чтобы дрова тащил прежде не на баню, а чтобы и по баракам распределил, а то все к утру перемерзнут. Усек?
…В стороне от суматохи и воплей, где тьма снова была густая, ползла себе телега. Лошадь – пузатая, сверху от хребта – сплошные ребра, как на заборе, зевала и шаркала копытами. Фальшивый парашник (настоящий как раз летел себе на небо) в сторону огня и не смотрел.
Главное теперь – не заснуть, а то лошадь-то дойдет, дорогу знает, а он замерзнет к чертям. После жаркой котельной с непривычки холодно…