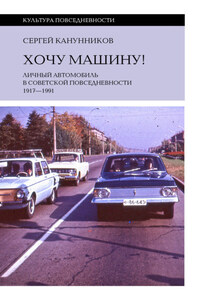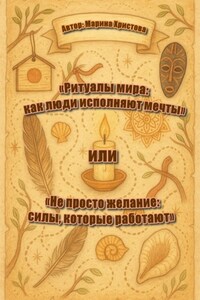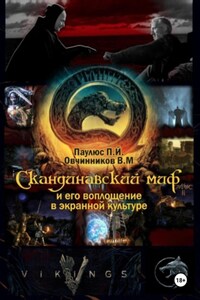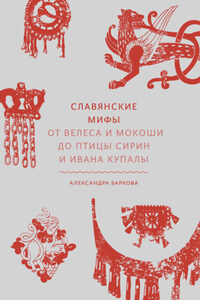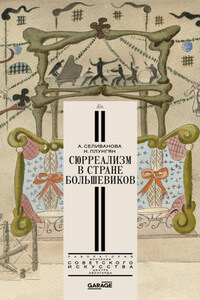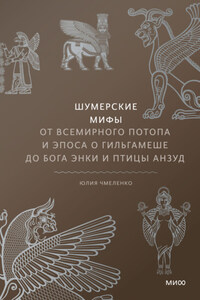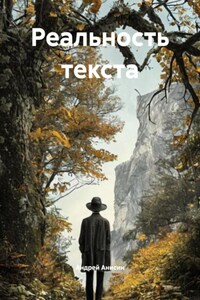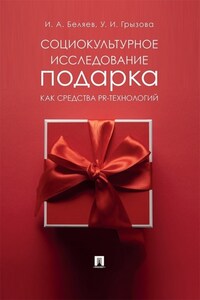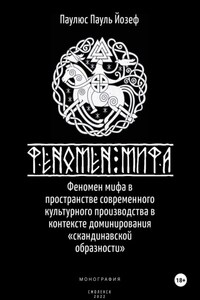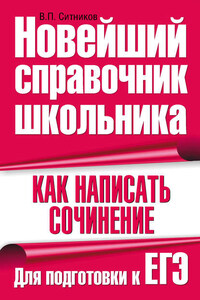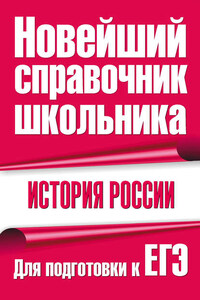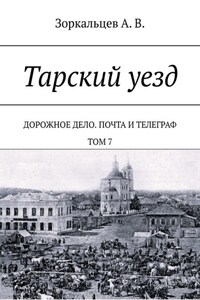В середине 1980‑х годов, после периода застоя, в СССР наконец-то наметились перемены в экономической и политической жизни. Но повседневная жизнь советских граждан, в том числе автолюбителей, пока оставалась прежней.
Мне понадобилось заменить полуось старенького «Москвича-412» из‑за люфта в изношенном подшипнике. Способ проверки – элементарный: если полуось хоть немного можно сместить, просто подергав руками, ее пора менять. Я уже несколько лет как получил профессию слесаря-авторемонтника и освоил автомобильные премудрости достаточно основательно, поэтому не предвидел каких-либо сложностей. Мне предстояло лишь достать эту самую полуось. Казалось, для продвинутого автолюбителя это не проблема. Надо всего лишь в ночь с пятницы на субботу выехать на пустую в такие часы и в те годы Московскую кольцевую автодорогу и ехать по ней, пока в свете фар не откроется феерическая и совсем не социалистическая картина. На протяжении пары километров обе обочины, правые ряды двухполосной в каждом направлении МКАД и даже разделительный газон уставлены сотнями машин. Это знакомый московским автолюбителям так называемый «ночной рынок». Здесь можно было купить все: от болтов и гаек до шин и крупных агрегатов. Кто-то торговал новыми запчастями, кто-то – поношенными, но еще более или менее пригодными к употреблению.
Новая полуось – в багажнике. Осталось вернуться домой и установить ее куда положено. Особых условий для этого не требуется, поэтому я все делал прямо во дворе. Навыков, инструментов и энтузиазма у меня хватало. Через десять минут колесо и тормозной барабан сняты, старая полуось извлечена. Но новая на место почему-то не встает. Понимаю: она во что-то упирается, однако с молодецкой горячностью берусь за молоток. Он не помог вставить полуось, зато громкий звук, разносящийся по двору, разбудил всех соседей.
В общем, старая полуось возвращается на место, новая в багажник, а я в недоумении и раздражении иду домой. Нахожу зачитанную и немного испачканную грязными руками слесаря книжку о взаимозаменяемости агрегатов и узлов «Москвичей» разных моделей и лет выпуска – настольную книгу владельцев этой марки. Выясняется, что в 1974 году ее заднюю колею расширили на незаметные для глаза 70 миллиметров. Но и полуоси, соответственно, удлинили. А значит, на мой «Москвич-412» 1972 года новая полуось встать не может по определению.
Я потом кому-то продал эту новую, но бесполезную для меня деталь. И усвоил нехитрую премудрость, важную для рядового советского автолюбителя: многочисленные книги, пособия и статьи по ремонту и обслуживанию автомобилей печатали совсем не зря. И только осознав это, можно добиться того, чтобы старенькая машина все-таки ездила. Вопреки дефициту всего и вся: новых автомобилей, запчастей, сервисных услуг, а заодно и «лишних» денег.
* * *
Сегодня автомобиль для нас – бытовая техника, почти как стиральная машина, телевизор, компьютер. Он, конечно, технически сложнее и гораздо дороже, но настолько же привычная и даже обыденная вещь нашей повседневной жизни. Нынче удивляются скорее тому, что в семье нет автомобиля, чем его наличию. Тем, кто родился в конце ХХ – начале XXI века, кого уже из роддома везли домой в семейной машине, а потом возили в ней в детский сад и в школу, непросто понять, насколько другим был мир советского автомобилиста. Словосочетания «хочу машину», «купил машину», «продал машину», «отремонтировал машину» в СССР описывали не совсем то, а иногда и совсем не то, что теперь.
Словосочетания «личный автомобиль» и «частный автомобиль» в нынешнем бытовом языке, по сути, – синонимы. Произнося их, мы не задумываемся, в чем различие. В советские времена в бытовых разговорах очень редко говорили «личный автомобиль», куда чаще – «частный». В лексиконе того времени укоренились выражения «частная машина», «частник» – ее владелец и, кстати, даже «частные номера». Имелись в виду государственные регистрационные знаки. Ведь те, что выдавали «частникам», по набору, а потом и расположению букв и цифр отличались от тех, что ставили на государственные машины. Опытный глаз даже в городском потоке сразу выделял «частную» машину.