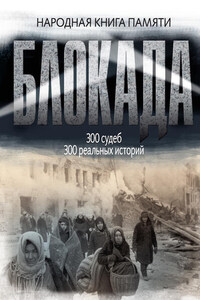Пролог
Дождь в Петербурге был не водой, а ржавой иглой, вонзающейся в плоть города, прошивая серое небо и мокрые крыши грязной ниткой забвения. Он стекал по граниту набережных, смывая в Неву не золото, а позолоту иллюзий – выцветшие снимки счастья, шелуху вчерашних обещаний, чьи-то оставленные надежды. Вода в каналах густела, как застоявшаяся кровь, отливая маслянистой пленкой радуги на гниющей ране; она несла в себе не жизнь, а кривые отражения окон – слепые глаза утонувших миров.
В такой дождь, когда город сжимался в промозглый склеп под низким потолком туч, по набережной Мойки двигался человек. Не шел – плыл тенью, оторвавшейся от стены и затерявшейся в серой мгле. Имя его, настоящее, было чуждо этому месту и потеряло смысл. Здесь, в этом месте силы отчаяния и липкой безнадежности, его знали, как Воскрешающего. Но пока он лишь Собирал. Собирал потерянное. Забытое. Или то, что так отчаянно пытались стереть из памяти. Осколки, которые могли пригодиться позже, когда его истинная мощь пробудится в этом умирающем мире.
Его пальто, пропахшее сыростью подвалов, пылью дорог, которых нет на картах, и древним прахом иных миров, было темнее ночи. Лицо скрывали воротник и низко надвинутая шляпа, но, если бы кто осмелился заглянуть, увидел бы не черты, а провалы. Впадины вместо щек, выеденные не телесным голодом, а ненасытным – вечной утечкой жизненной силы, которую этот мир отторгал. Глаза, глубоко утонувшие в орбитах, словно прячась от навязчивой серости бытия, цвета окислившегося свинца. В них не было живого блеска, лишь тяжелое, вязкое знание о тканях смерти и хрупких нитях, что когда-то связывали души с плотью, обволакивающее душу, словно саван из промокшего войлока.
Он направлялся к месту встречи. К Устью.
Так он называл этот участок набережной у низкого, покосившегося мостика. Здесь река делала крутой изгиб, и вода, ударяясь о гранит, закручивалась в воронки – мутные, пенящиеся, с черными прожилками тины и городской грязи. В этих водоворотах, как знал Собирающий, оседало не только то, что несла Нева. Оседали отголоски. Обрывки. Эхо потерянных вещей и остатки угасших душ. Случайно выскользнувшее кольцо, вырванный с корнем крик, последний вздох, подхваченный ветром с Литейного моста. Все, что было слишком тяжело, чтобы всплыть, и слишком ценно или слишком насыщено смертью, чтобы раствориться без следа, тянуло ко дну именно сюда, в этот водоворот забытья. Здесь можно было нащупать следы, уловить шепот ушедших – сырье для грядущего воскрешения.
Он не был сильным магом этого мира, как те, о ком шептались в темных углах. Его дар был иным, чуждым, рожденным в иных мертвых пространствах. Тихим, извращенным родством с гниением, с самим процессом распада и темной энергией, что остается после. Он чувствовал вещи не в их целостности, а в миг их утраты, в секунду, когда связь с хозяином рвалась, высвобождая эфирный остаток, оставляя в ткани мира клочья боли и отчаяния. Он улавливал этот запах – сладковато-горький, как запекшаяся кровь, смешанная с запахом мокрой шерсти и озоном после близкого удара молнии. Запах утраты. И шел на него, как гончая по кровавому следу, ибо в этом следе таилась искра того, что он однажды сможет вернуть.
Клиент ждала его у перил, под зонтом, который трепал злой ветер с залива. Молодая женщина, но состаренная горем. Лицо белое, как промокшая бумага, глаза – огромные, темные лужицы страха, в которых плавало что-то дикое, нечеловеческое. Она сжимала в руках потрепанную детскую игрушку – промокшего насквозь плюшевого медвежонка с одним оторванным ухом.
– Он… он упал, – прошептала она, голос сорвался в хрип. – Три дня назад. С этого моста. Искали… водолазы… ничего. Ничего! – Ее пальцы впились в мокрый плюш так, что вот-вот порвут ткань. – Егор… мой брат… Его нет. Но я… я чувствую! Он зовет! Оттуда! – Она ткнула пальцем в черную пену водоворота у опоры моста. – Темно там… холодно…, и он зовет! Помогите! Найдите его! Воскресите! Хотя бы… чтобы проститься… чтобы знать…