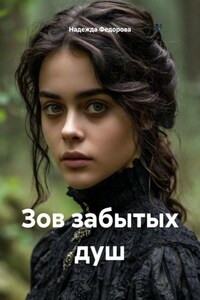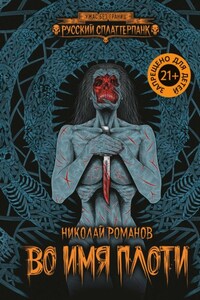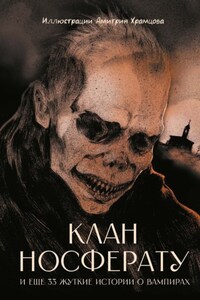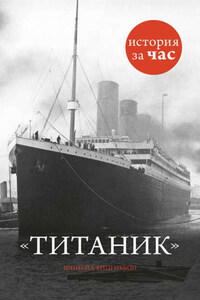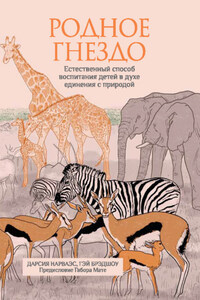Игла
В серых сумерках Петербурга можно купить прощание с мертвыми. Но за иллюзией возвращения скрывается нечто чудовищное. Некромант Ардис, движимый безумной тоской по утраченному сыну, нарушает самые основы мироздания. Каждое его "воскрешение" разъедает ткань реальности и его самого, приближая невообразимую расплату. Сможет ли он остановиться, когда цена становится ясна?
| Жанры: | Ужасы, Мистика, Городское фэнтези |
| Цикл: | Не является частью цикла |
| Год публикации: | 2025 |
Читать онлайн Игла
Книга заблокирована.
Вам будет интересно