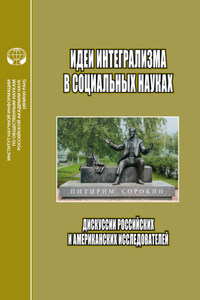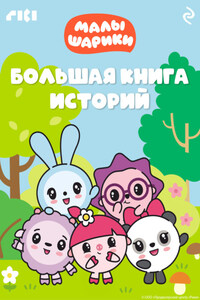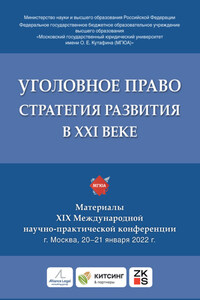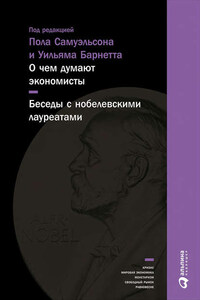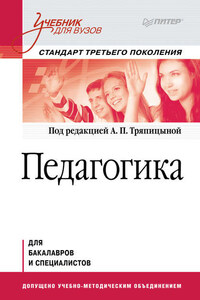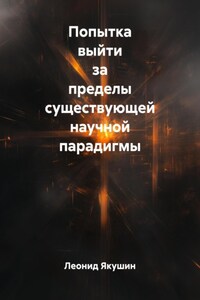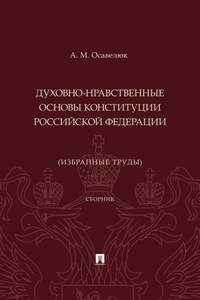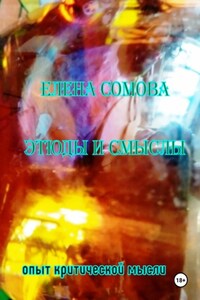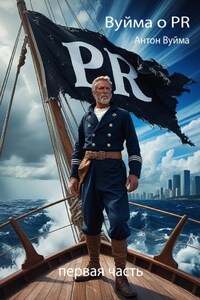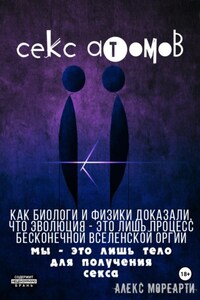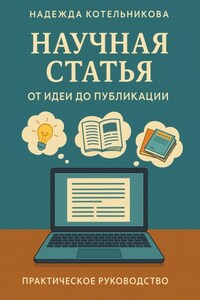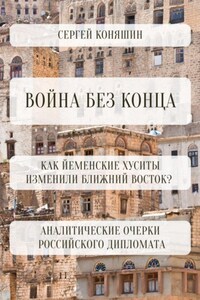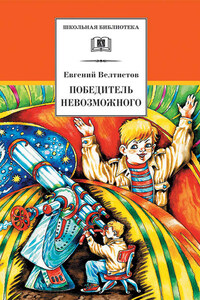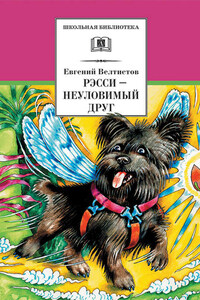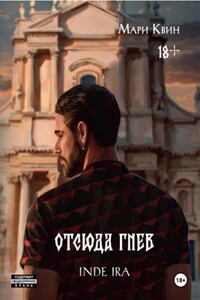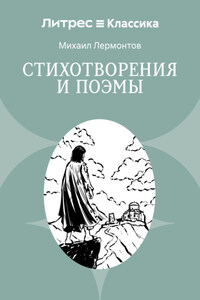Д. В. Ефременко, А. Ю. Долгов
Сорокинский интегрализм и современное социальное знание: вступительная статья
So oft in theologic wars,
The disputants, I ween,
Rail on in utter ignorance
Of what each other mean,
And prate about an Elephant
Not one of them has seen!
J. G. Saxe «The blind men and the elephant» (1872)
Известная древнеиндийская притча о слепцах, ощупывающих огромного слона и на основе своих тактильных ощущений пытающихся дать его исчерпывающее описание, нередко вспоминается в тех случаях, когда представители различных культурных и интеллектуальных традиций пытаются анализировать многомерный феномен, который в пределы одной из этих традиций заведомо не «укладывается». Мир научных трудов, идей и прозрений Питирима Александровича Сорокина относится к числу таких феноменов. Этот мир огромен, даже если пытаться измерять его в сугубо формальных показателях, таких как тома, страницы, печатные знаки. Универсум Сорокина имеет и пространственно-временную протяженность, начавшись в отдаленном уголке севера Российской империи и закончившись поблизости от того места, где прибывавшие в Новый Свет колонисты обещали построить «град на холме». Восприятие интеллектуального наследия Сорокина в немалой степени обусловлено и его двуязычностью, причем хронологически более ранняя русскоязычная часть, недостаточно известная за пределами России, служит одним из ключей к пониманию многих принципиально важных англоязычных трудов.
Наследие Питирима Сорокина в России и Америке воспринимается по-разному. В нашей стране после снятия цензурных запретов коммунистического периода «возвращение» или – фактически – новое прочтение Сорокина в основном начиналось с русскоязычных публикаций и перевода на русский тех работ, для создания которых решающее значение имел опыт жизни и исследовательской деятельности в до- и послереволюционной России[1]. Рецепция «позднего» Сорокина, автора «Социальной и культурной динамики»[2] и творца новой версии интегрализма, проходила позже и в полной мере не завершена до сих пор. Тем не менее в современной России Питирим Сорокин видится как один из корифеев социального знания, к авторитету которого нередко апеллируют и в рамках вполне злободневных дискуссий.
В США, насколько можно судить, в отношении интеллектуального наследия Питирима Сорокина сейчас более распространен антикваристский подход, взгляд на его деятельность в увязке с общим контекстом развития американской социологии в 1930–1960-е годы. Наиболее значимыми для историков социологии и специалистов по социологической теории остаются в основном работы Сорокина о революции, социальной мобильности и стратификации. Поворот к интегрализму в его творчестве, обозначившийся в «Социальной и культурной динамике»[3] в конце 1930 – начале 1940-х годов, был принят академическим сообществом скептично, исследователи увидели в интегральном подходе скорее этическое учение и профетический пафос, но не научную теорию. Немалая часть современных западных исследователей, принадлежащих к мейнстриму социальных наук, предпочитает игнорировать вклад в них Сорокина только потому, что его амбиции построения интегралистской метатеории слишком расходились и расходятся с конвенциональными установками социального познания. Однако есть и активное меньшинство, убежденное в том, что сорокинский интегрализм – не просто важная веха истории наук об обществе середины XX в., но живительный источник обновления социального знания в веке XXI.
Ядро этого меньшинства составляют ученики Сорокина, ученики его учеников (в частности, те, чьим научным ментором был Э. Тириакьян), а также те социальные исследователи, для кого интегралистская перспектива представляется наиболее адекватной вызовам, с которыми сталкиваются сегодня социальные науки. Первую часть настоящего сборника составляет антология статей