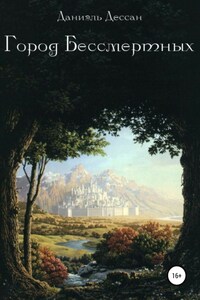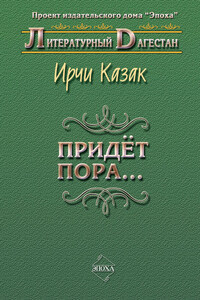Инквизитор и ведьма
В прекрасной Нарбонне нет места для ереси и чернокнижия! У инквизитора, пожалуй, нет права на обычную жизнь и чувства. У ведьмы, стоящей в шаге от костра, наверное, нет возможности спастись?.. Это история о страсти, предательстве и искуплении, где границы между добром и злом стираются, а выбор между долгом и чувством сложен, как никогда.
| Жанры: | Городское фэнтези, Героическое фэнтези, Историческое фэнтези |
| Цикл: | Не является частью цикла |
| Год публикации: | 2025 |
Читать онлайн Инквизитор и ведьма
Книга заблокирована.
Вам будет интересно