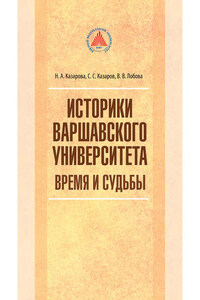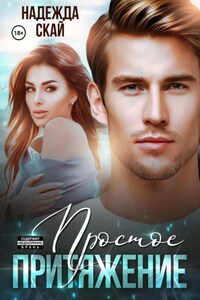Карусельные лошадки
Прежде любой город строили так, что в сердце его оказывались
не мэрия, не полицейский участок и не какой-нибудь памятник, а
карусели и детская площадка. И это правильно. Потому что, если в
голове может находиться что угодно — всякие мысли, слякоть, дождь
или снег — в сердце обязательно должны царить смех и
радость.
В давние времена, ставшие не историей даже, а легендой — не
на церкви, не на музеи жертвовали богачи, а на ларьки со
сладостями, лесенки, качели, песочницы и горки. Так что, чем больше
места и чем зажиточнее бюргеры — тем веселее и вольготнее жилось
ребятне.
В те далекие годы, уже покрытые пылью забвения, счастье
меряли в детских улыбках, а младшего члена семьи на праздничных
застольях непременно сажали во главе стола.
Городок Эленд — не велик и не богат, но и там вспыхивали
каждый вечер огни в центральном парке, звучала музыка и неслись по
кругу, задирая морды и раcпушив по ветру хвосты,
карусельные лошадки. Белая, гнедая... белая, гнедая — через одну.
Без всадников они скакали резво, оглашая воздух тревожным
механическим ржанием. Как будто звали малышей покататься. Но мало
кто откликался на их зов.
Иногда в парк забредал хромой Патрик и терпеливо дожидался,
пока кто-нибудь из взрослых не подсобит ему взобраться на карусель.
Зато спускался он самостоятельно. Накатавшись, кулем валился на
деревянный помост и спешил уползти до предупредительного свистка. В
другой раз глухая Сара с маленькой сестренкой Лизой проезжали
два-три круга. При этом старшая девочка обычно зевала во весь рот и
едва придерживала поводья, а у младшей глаза становились круглыми и
блестящими, как агатовые пуговицы. А бывало, что фрау Больц
усаживала в седло свою Анну, но та не любила скорости и после
первого же круга начинала плакать. Мать сгребала ее в охапку и
уносила прочь.
Днем, когда карусельное сердце не билось, на улицах
становилось совсем тихо. Никто не бегал, не пел и не кричал, не
гонял мяч во двориках, не играл на балконах. Уютный и чинный
городок походил на старика с мутным взглядом и медленной кровью. А
все потому, что его дети были нездоровы.
Много лет подряд люди доставали из земли ядовитую дрянь.
Северную окраину Эленда опоясывали шахты. Теперь заброшенные, с
обрыва они казались гигантскими сотами каких-то невиданных пчел. С
другой стороны, с юга, город сжимали полукольцом болота. Через них
вилась тропинка, мимо опасной трясины, мимо озера с золотым
тростником, мимо сухого леса — уводила в большой мир. Над болотами,
озером, лесом так же витали пары ядовитой дряни. Мягкий радужный
туман, сквозь который даже черные, мертвые стволы виделись чем-то
загадочным и красивым.
Пока дрянь таилась в недрах, вреда от нее не было никакого.
Извлеченная наружу, она проникала в тела людей и вызывала болезни.
И если взрослые еще как-то терпели и справлялись, дети оказались
беззащитны. Они рождались хворыми, как деревца на пожарище, и
первыми засыхали.
После того как шахты закрыли, жизнь в Эленде продолжалась
кое-как. Словно полудохлая кляча, она тащилась по ухабам, не
разбирая дороги. Скорее, по привычке, чем с какой-то целью. И
плелась бы так дальше, и тянулась бы — эта вязкая, непутевая жизнь
— если бы однажды ночью старый фонарщик Томас не встретил в
городском парке Вечного Ребенка.
Золотые монетки света дрожали тут и там на асфальтовой дорожке,
одна-две закатились и в кусты. Далее — в спутанной массе голых
прутьев, в угрюмых кронах лип и тополей — властвовала темнота.
Горел одинокий фонарь. Стилизованный под старину, он раскачивался
на толстой цепи, и с каждым порывом ночного ветра, световые пятна
пускались в перепляс. Зелено, ярко блестели лампочные гирлянды на
березе. С начала октября и до самого Рождества они занимали место
облетевших листьев. Так что, пока в остальном парке царила поздняя
осень, единственная береза, черная и пустая днем, каждый вечер
по-весеннему расцветала, веселя глаз и сердце.