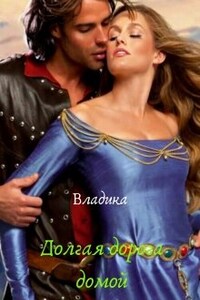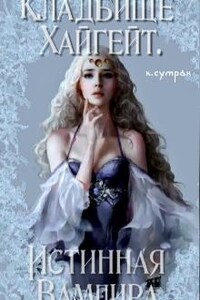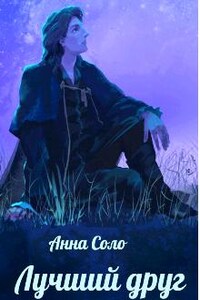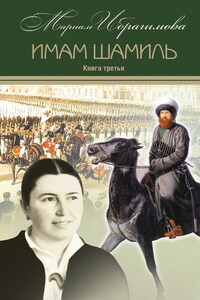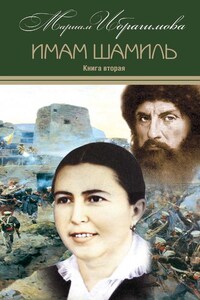Все сказки хотят быть рассказанными. Так сказала однажды Мэй.
Чудная фраза. Впрочем, она частенько выдавала такие чудные фразы,
всех и не упомнишь. Но эта прочно поселилась в моей голове. Я ее
прочувствовал. Можно сказать, испытал на себе.
Однажды во мне загорелась история. Моя история. Она сжигала
изнутри, скреблась, как кошка, зудела, как руки после комариных
укусов. Я хотел, чтобы она навсегда осталась со мной. Эдакой
маленькой тайной, о которой стыдно признаваться людям. Но с каждым
вечером она жжёт, скребется и зудит все сильнее. Сказка хочет быть
рассказанной. А я не в силах ей противиться.
Я не сказочник, увы. Будь я сказочником, как Мэй – наверняка не
пришлось бы сидеть три часа к ряду за письменным столом и грызть
колпачок от ручки, в надежде поймать искорку вдохновения или нужную
фразу. Как там обычно бывает? «Однажды давным-давно…». Или «в
некотором царстве…». В любом случае, ни одно из этих начал не
подходит.
Если быть честным, начало должно звучать так: «Однажды декабрьским
утром в классе математики Гимназии №4…». Или «Однажды декабрьским
вечером на перекрестке между улицей Пушкина и проспектом Дружбы…».
Смотря, какой момент моей жизни принимать за точку отсчета. И,
пожалуй, ей должен стать день, когда я впервые встретил
старика…
***
Утреннее небо было серым. Время неуклонно близилось к новому году,
а снег и не думал выпадать. Машины за окном с ревом
накручивали на колеса коричневую жижу, голуби на сверхзвуковой
скорости целой стаей пронеслись мимо лоджии, чтобы урвать хлебные
крошки сердобольных старушек. Апогеем стал младенческий плач и
заветное «тише солнышко, тише», - звучавшее в разы громче самого
плача.
Проснулся я не в духе, за полчаса до будильника, потому что шум за
окном проникал даже сквозь прижатую к ушам подушку. Новый детский
вопль – и я со злостью швырнул подушку на пол и вскочил с кровати.
Папа мог себе позволить окна получше, чтобы не пропускали звук, и я
сотни раз ему об этом говорил. Папа отнекивался. У него были другие
заботы.
У папы всегда были другие заботы, сколько я себя помню. Круговорот
из бумаг, отчетов, заседаний, телефонных разговоров. Каждый день, и
воскресенья не были исключениями. Папа брал трубку в любое время
дня и ночи – когда мы садились завтракать, и когда сидели в
кинотеатре, и когда мы просто разговаривали о чем-то будничном.
«Извини, сын. Я быстро», - шептал папа, виновато глядя мне в глаза,
мимоходом поправлял полосатый галстук и уже совершенно другим
голосом сообщал собеседнику: «У телефона Дмитрий Алексеевич,
слушаю вас…». Конечно, это никогда не заканчивалось быстро.
Он тут же выходил из комнаты, или кухни, или кинозала и исчезал.
Иногда в буквальном смысле – садился в машину и мчался к клиенту, а
иногда хоть физически папа оставался рядом, его мысли блуждали
где-то совершенно далеко, погруженные в насущные проблемы малого
бизнеса.
Потом, когда проблемы были решены, папа неловко заламывал руки,
говорил, что «это точно было в последний раз» и пытался извиниться.
Не словами, нет. Папа не умел извиняться словами. В пять лет я
получал конфеты и машинки, а в пятнадцать – деньги. Это вошло в
привычку у нас обоих. Семейное взяточничество, способное
компенсировать недостаток внимания. В пять мне было обидно. Гулять
с отцом, как все нормальные мальчишки, хотелось больше конфет. К
пятнадцати я научился извлекать из этой ситуации максимум
выгоды.
Отцу было некогда смотреть, чем занимается его ребенок, как учится,
как ведет себя в школе. Он возлагал надежды на учителей, а потому
добровольно записался в меценаты и периодически отпускал школе
такие суммы, что директор мог позволить себе раз в полгода поменять
компьютер в кабинете. Просто так, чтоб был новый.