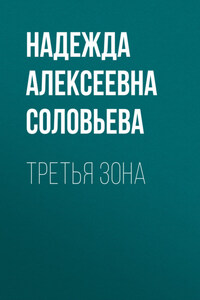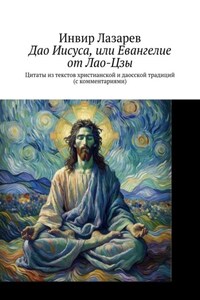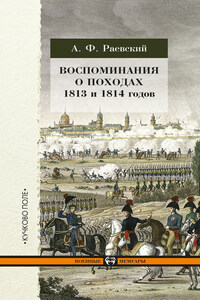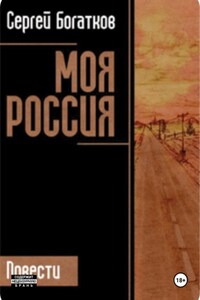Между угасающим многобожием и христианством, пришедшим на смену иудаизму и захватившим мир, возникла третья система – гностицизм. Родившись из нескольких других, эта система лишь обобщила наиболее важные из них.
Это было время эклектики. Эклектика царила в философии, как мы можем видеть из тенденций Плутарха и Аммония; в религии, как мы можем видеть из Оригена и Климента Александрийского; в морали и политике, как мы можем видеть из трудов и учреждений Антонинов.
Представляя собой более полную эклектику, чем любая другая, охватывая Восток и Запад, христианство и политеизм, система, занявшая место между этими двумя доктринами, льстила себе тем, что одержит верх над обеими, тем более легко, что одна, казалось, сохранила слишком много, а другая слишком мало тех теорий, которые любил древний мир: Он предложил Космогонию, более обобщенную, чем политеизм, более развитую, чем священные кодексы, свою Теогонию, свою Эогонию, свою Пневматологию и свою Антропологию, которые также добавляли к христианским теориям и вычитали из языческих доктрин. Он ставил себя выше всего, что его окружало, и, сказав ученикам Моисея: «Вы никогда не знали ни Верховного Существа, ни его закона, и ваше откровение – лишь работа подчиненного божества», он сказал политеистам: «У вас нет религии, у вас есть только мифология, у вас нет философии, у вас остался только скептицизм». Наконец, – говорил он христианам, – у вас больше нет истинных текстов ваших первых учителей, а эти учителя, сбитые с пути иудаизмом, не поняли своего божественного учителя».
Говоря на этом языке с обеими сторонами, гнозис добавил свои тайны к тому, чего не хватало в их публичном или интимном учении, и реформировал оба института и доктрины.
Гностицизм добавил уроки и примеры к своим опровержениям, и, кажется, на мгновение у него зародилась честолюбивая надежда на великие завоевания. У него действительно было много школ в Сирии, Египте, Малой Азии, Лисе, Италии, Галлии и Испании. Но нигде ему не удалось завоевать большинство, покорить общественное управление. Во всей своей работе и во всех своих тенденциях он пренебрегал именно тем, что так долго поддерживало политеизм, тем, что должно было сделать христианство религией цивилизованного мира, а магометизм – значительной части Востока, то есть политикой или союзом с государством.
Как мог гностицизм пренебречь или отмахнуться от этого союза?
Неправильно было бы сказать, что он пренебрег или презрел его: вот причины, по которым он не мог вступить в него.
Она никогда не была фиксированной системой; это был ряд систем, все свободные и независимые друг от друга. В таком состоянии она не могла достичь общего успеха и сохранить единство, достаточное для управления обществом.
Кроме того, в ее примитивных принципах отсутствовала социальная мораль, которая позволила бы политике принять ее и доверить ей судьбу нации. Это был просто набор спекуляций, более подходящих для соблазнения школ, чем народов, и более подходящих для формирования теософов, чем практических людей.
И наконец, он, казалось, обвинял себя в фундаментальной ошибке, поскольку не испытывал энтузиазма в отношении своей веры, бежал от преследований и мученичества, отказывался от публичного исповедания своих теорий и стремился спрятаться в рядах других, вместо того чтобы нести свое знамя.