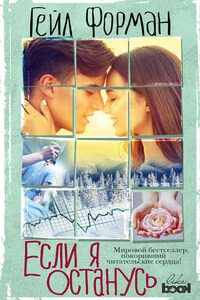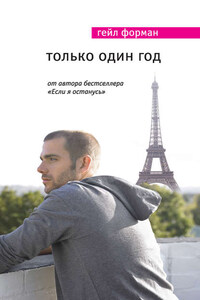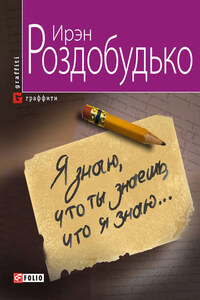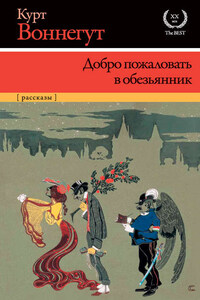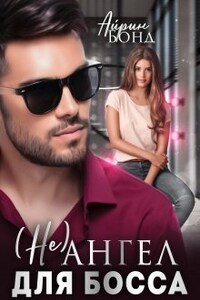Проснувшись утром, я говорю себе: «Всего один день, двадцать четыре часа, потерпи». И так каждое утро. Я не помню, ни когда именно начал подстегивать себя подобным образом, ни почему. Это похоже на мантру программы «12 шагов анонимных-кого-нибудь-там», хотя я не из них. Хотя, если почитать тот бред, что обо мне пишут, можно предположить и такое. Многие готовы продать почку, чтобы хоть ненадолго попасть на мое место. Но мне, тем не менее, приходится напоминать себе о том, что этот день не будет длиться вечно, что я пережил вчерашний, значит, протяну и этот.
После этого ежедневного ритуала я смотрю на минималистические электронные часы на тумбочке. 11:47 – в моем понимании жуткая рань. Но меня уже дважды пытались разбудить звонком со стойки регистрации, а кроме того, звонил и Алдус, наш менеджер, вежливый, но неуклонный. Даже если сегодняшний день один из многих, расписание все равно забито под завязку.
Мне надо в студию, наложить несколько последних гитарных треков на оригинальную версию первого сингла нашего только что вышедшего альбома, предназначенную строго для Интернета. Это фокус такой. Та же самая песня, но добавляем новую гитару, голосовые спецэффекты, и получаем несколько лишних баксов. «В наше время надо высасывать каждый доллар из всего, чего только можно», – любит напоминать нам звукозаписывающая компания.
Затем у меня интервью с репортером из «Шаффла». Собственно, эти два события являют основу моей теперешней жизни: писать музыку (это я люблю) и разглагольствовать о том, как я это делаю (а вот это я уже ненавижу). Но это две стороны одной медали. После второго звонка Алдуса я, наконец, скидываю одеяло и беру с тумбочки пузырек. Мне прописали какое-то лекарство от тревожности, когда я становлюсь нервным.
Хотя я все время нервный. К этому я уже привык. Но после того как началось это турне с тремя концертами в Мэдисон-сквер-гарден, все стало хуже. Как будто меня засасывает нечто мощное и болезненное. Водоворотообразное.
«Такое слово вообще есть?» – спрашиваю я сам себя.
«Да какая, к черту, разница, ты же все равно сам с собой разговариваешь», – отвечаю себе я, глотая пару таблеток. Надеваю трусы и иду к двери, за которой меня уже ждет полный кофейник. Там его оставили, следуя моим строгим инструкциям не попадаться мне на глаза.
Допив кофе, я одеваюсь, спускаюсь по служебному лифту, выхожу через боковую дверь – менеджер, который занимается обслуживанием клиентов, по доброте душевной предоставил мне ключ, чтобы я мог избежать сцен в фойе. На улице первым меня приветствует порыв туманного нью-йоркского воздуха. Вообще, этот климат на меня давит, но мне нравится, что воздух влажный. Это напоминает мне Орегон с его бесконечным дождем, который не прекращается даже в самые жаркие дни лета, и белыми кучевыми облаками, которые цветками распускаются высоко в небе. Их тени постоянно напоминают тебе, что летняя жара – это ненадолго и что скоро в любом случае будет дождь.
Сейчас я живу в Лос-Анджелесе, где вообще практически не бывает дождя. И не прекращается жара. Но там сухо. И этой засухой люди оправдывают и пекло, и смог. «Ну и что, что сегодня сорок два градуса? Зато хоть не влажно!» – бахвалятся они.
А в Нью-Йорке и жарко, и влажно; и когда я добираюсь до студии, пройдя через десять перекрестков пустынных пятидесятых улиц на западе города, волосы под бейсболкой у меня уже все мокрые. Я достаю из кармана пачку сигарет и, вытащив одну, прикуриваю ее дрожащей рукой. Около года назад у меня появился легкий тремор. Проверив все мои анализы, врачи сказали, что со мной все в порядке – это просто нервы, и посоветовали заняться йогой.